Я слушаю повесть о новых веках. Начало великой борьбы. Атомный взрыв 1945 года. Что видели астрономы Марса. Новый вулкан у берегов Бретани. Пики и арбалеты заменяют пушки и пулеметы. Освобожденная Европа. Азорское соглашение. Возникновение Пан-Американской Империи. Эпоха невиданных войн. Война за Гольфштрем. Жизнь под землей. Мировой Союз Братских Республик. Прогресс человеческих знаний. Я чувствую себя, как непонятливый школьник. Завоевание энергии. Усовершенствование человеческого рода. Междупланетное сообщение. Мы едем знакомиться с новым миром...
Я не хочу писать здесь о своих личных переживаниях. То, что я перечувствовал, — мне не хочется наряжать здесь в слова, фразы, связные мысли... Слишком глубоко захватило меня это чувство, слишком остра еще память — о чем? о прошлом? Нет. Значит это будет в грядущем? Значит, исчезнув из этой жизни через положенное число лет, я восстану через десятки веков, и мое я вновь переживет упоительный сон этой странной любви?..
Рея! шепчу я имя любимой... Ее уже нет... Тогда где же она? Мысли мешаются, и слова бессильны что-либо выразить...
Снова берусь за перо. Так много надо еще рассказать...
Взявшись за руки, точно дети, мы вошли в другую залу, где среди своих чудесных растений виднелась фигура мудрого Антея.
— Отец... — тихо окликнула его моя подруга...
Погруженный в свои мысли, старый ученый не сразу услышал. Он оглянулся, когда мы подошли совсем близко. Не было необходимости говорить ему еще что-нибудь: наши счастливые лица сказали ему обо всем. Мягко положив свои сильные руки на наши плечи, он глубоко заглянул нам в глаза. Мне показалось при этом, что в его взгляде мелькнула какая-то тревожная мысль.
Вздохнув, он прошептал несколько непонятных мне слов и, тихо притянув к себе Рею, долго и грустно глядел нам в лицо.
Внешне наша жизнь шла, как и раньше. Я не счел нужным делать профессора Фарбенмейстера моим сердечным поверенным. Погруженный в свои книжные изыскания, он вряд ли даже замечал мое отсутствие, так как большую часть времени я проводил теперь около Реи, расставаясь с ней лишь на самое короткое время, казавшееся мне тогда бесконечно тягучим.
Новый мир сделался для меня чем-то родным. Не зная еще его, не видя — я чувствовал, что это уже не чуждый мне мир — ведь Рея, моя Рея, жила в нем, и значит это и мой мир, забытый и найденный вновь... Странное это было ощущение — с каждым часом мне казалось, что я не узнаю что-нибудь новое, а только припоминаю что-то давно позабытое... И в тоже время перспектива скорого, близкого, осязательного знакомства с этим миром начинала меня пугать. Мне казалось, что это отнимет от меня мою Рею. Что мне в этом мире, когда весь он — здесь со мной, в моем чувстве?
Рея по-прежнему помогала мне и профессору Фарбенмейстеру в наших занятиях, но, увы, я не был лучшим ее учеником; вслушиваясь в ее оживленную речь и любуясь одухотворенным лицом нашей учительницы, я нередко терял нить ее рассуждений... Старый профессор Антей тоже посвящал нам немало своего времени, и в его образных рассказах оживали минувшие века, над которыми наш корабль времени промчал нас, подобно тому, как экспресс с закрытыми окнами мчит путешественников через неведомые им страны и горы...
Какой захватывающей повестью была эта история прошлых веков, история того грядущего, в которое тщетно вперяли свой взор лучшие люди всех времен и народов!..
В этих немногих строках нет возможности дать даже бледную картину тех великих катастроф и побед человеческого гения, которыми пестрят страницы новой истории. Историю человечества за последнее тысячелетие я сравнил бы с плаванием корабля по неведомым водам. В начале, в эпоху XX, XXI и части XXII века — это плавание в бурю: взлеты, падение, удары волн, близость подводных камней, темнота, — прерываемая блеском ослепительных молний, смертельная схватка с враждебными силами космоса. Затем — опасный путь пройден, волны и скалы уже позади. Корабль вступает в тихий пролив — уверенно и смело распускает свои паруса и несется вперед, в бескрайные океанские дали... Зоркие глаза кормчих, погибавших на своем посту, и коллективная мощная воля экипажа не дали кораблю разбиться о камни, которых было так много на его трудном и долгом пути...
Вот, вкратце и отрывисто, то, что я узнал.
Весь XX век, особенно его вторая половина, был насыщен напряженной борьбой двух миров, — мира труда и мира, где царил капитал индустриального Запада и земледельческого Востока.
В поисках новых орудий военной техники, ученые всех стран уже два десятилетия лихорадочно работали над тайной разложения атома. Фантастические цифры энергии, которая тогда могла бы освободиться, кружила голову не только у широкой публики, жадно следившей за этими работами и понимавшей, что покорение атомной энергии преобразует весь мир. И думавшие это не ошиблись. Энергия эта, действительно, в необычайной степени способствовала изменению лика земли, но далеко не так, как они того ожидали.
Особенно подвинулось дело разложения атома и освобождения заключенной в нем энергии у одной группы французских ученых, работавших, как большинство исследовательских институтов того времени, в теснейшем контакте с военным ведомством. Предшествующие работы Рамзая, Резерфорда, Астона и других выдающихся исследователей тайн строения материи нашли здесь удачное завершение. К тому времени поняли, что для покорения такого гиганта, каким была энергия атома, необходимы чрезвычайные средства. Робкие лабораторные попытки первой четверти двадцатого века должны были уступить мощным, комбинированным атакам колоссальных давлений, сверхвысоких электрических напряжений и температур. Для этой цели на берегах Бретани было построено несколько грандиозных центральных электрических станций, использовавших энергию морских волн. Станции эти снабжали также Париж светом, теплом и движущей силой. Специальная лаборатория военного ведомства, устроенная в труднодоступной и надежно охраняемой местности, неподалеку от берега, могла располагать в отдельные часы всей огромной мощностью океанских электроцентралей, оперируя миллионами вольт и сотнями тысяч киловатт. Гигантские конденсаторы могли аккумулировать эту энергию, чтобы обрушить ее молниеносным разрядом на неподатливый атом. Опыты были настолько многообещающи и успешны, что в 1945 году близкие к этому делу лица были уверены в скором и конечном успехе. Специалисты уверяли, что военная техника западноевропейских держав получит тогда такое оружие, которое сделает всякую войну невозможной — конечно для тех, кто этим оружием не обладает...
Тоже самое, хотя с меньшей уверенностью, повторяли многочисленные пацифисты того времени. Чашка весов истории как будто явно склонялась на сторону Запада...
Но кудесники XX века, по-видимому, овладели не всеми заклятиями для власти над вызванным им духом разрушения и смерти: по каким-то непонятным причинам, — историки объясняют их различно: непредвиденным случаем или умышленным вмешательством агентов Восточных держав, — последний решающий опыт повлек за собою небывалую катастрофу. Атомы отдали скрытую в них энергию, Прометей разорвал свои цепи, но это стоило гибели почти половине Европы.
Намного километров кругом не осталось в живых никого, кто мог бы рассказать, что случилось. Катастрофа произошла ночью — взрыв необычайной силы разорвал атмосферу, подняв столб огненных паров на высоту нескольких сот километров. Пред этим взрывом ничтожны были исторические извержения Везувия, Кракатоа и горы Пеле на острове Мартинике. На снимках, сделанных астрономами Марса, ясно виден среди темного фона Земли этот вихрь сине-багрового цвета, взметнувшийся огненным протуберанцем на огромную высоту, около четверти радиуса нашей планеты. Я видел эти замечательные фотографии, с которыми человечество познакомилось два столетия спустя, когда были, наконец, установлены правильные сообщения с этой загадочной соседней планетой. Ужасающей силы взрыв развернул недра земли; оттуда хлынула огненная лава и смешалась с водами океана, превратившись в облако необъятных размеров. Огненный столб был виден во всей Европе, северной Африке, а отблески его наблюдались даже на границе Лапландии и в западной части России. Почти молниеносная сила взрыва вызвала настоящее землетрясение, разрушившее то, что осталось после опустошительного бега воздушной волны. Волна эта дважды промчалась вокруг всего земного шара, достигнув антиподов Парижа в виде громовых раскатов на ясном, безоблачном небе.
Последствия этой почти космической катастрофы были ужасны. На месте самого взрыва осталась огромная пропасть — кратер нового вулкана. Дождь земли и камней, обрушившихся с высоты нескольких сот километров, завалил под собою десятки цветущих городов Франции и Южной Англии, создав новые бесчисленные Геркуланумы и Помпеи, засыпал Ламанш, разделявший обе эти страны, и в смертельном объятии спаял их в один материк... Дальше шла зона, опустошенная силой воздушной волны и сотрясения почвы. Зона эта охватывала почти всю Англию, Францию, Бельгию, часть Испании, запад Германии и север Италии. Небывалой силы вихрь разметал все суда в Средиземном море и в восточной части Атлантического океана, подняв волны невиданной высоты. Взрыв сопровождался, кроме того, каким-то странным электрическим разрядом огромной проницающей силы, вызвавшим детонацию почти всех взрывчатых материалов в Западной части Европы. Большинство арсеналов, набитых снарядами, превратились при этом в развалины. Общие цифры убытков и жертв никогда не могли быть приведены в ясность. Как бы то ни было, погибло больше восьми миллионов народа, пострадавших было по крайней мере в два раза больше, разрушена была масса заводов, домов и разных строений. Потрясение хозяйственной и военной мощи двух величайших Европейских держав было настолько велико, что капиталистическая система Европы дала зияющую трещину в самом своем основании. Взрыв сорок пятого года ускорил процесс естественного разложения старого мира и тщетны были попытки Франции и Италии отвлечь внимание широких народных масс войной с возрожденной Россией, которой западные державы, — особенно Англия, — пыталась навязать роль виновницы страшного атомного взрыва...
Наполовину уничтоженная атомным взрывом, боевая мощь Европейских держав заставила их во многом изменить свою военную тактику. Союз Народов Востока в этой войне извлек на арену совершенно новое оружие боя, — это были те «детонирующие лучи», которые в последующие века с таким успехом были применены в усовершенствованном виде для новых общественных грандиозных работ.
 Рис.4. Вновь воскресли старинные луки, катапульты, арбалеты, кольчуги и панцыри»... |
Лучи эти в эпоху второй Европейской войны обладали, впрочем, лишь одним свойством — они мгновенно разлагали почти все взрывчатые и легко горючие вещества, вроде пороха, динамита, бензина и нефти. Один прожектор с такими лучами «выметал» перед собою в несколько минут пространство в десятки квадратных километров. Бессильными сделались пушки, в ненужные куски металла и дерева превратились автоматические многозарядные винтовки, бесполезными стали гигантские аэропланы, обреченные сидеть на земле... Холодному оружию вновь суждено было решить судьбу сражающихся, подобно тому, как это бывало до изобретения пороха. Вновь воскресли, после многовекового сна, старинные луки, и на кино-фотографиях того времени я с изумлением наблюдал совершенно неправдоподобные сочетания: катапульты на автомобилях, арбалетчиков в противогазах, средневековых пращников в защитного цвета рубашках, копейщиков на велосипедах и командиров с полевыми биноклями, одетых в кольчуги и панцири... Всего лишь пять месяцев понадобилось на то, чтобы Восточные армии, поддержанные бесчисленными восстаниями рабочих в тылу своих Западных врагов, — прошли всю Европу. Снова, как в 1814 году, крутобокие лохматые казацкие кони утоляли свою жажду водами Сены. Но, увы, что осталось теперь от Парижа? Прекраснейший город Европы лежал наполовину в развалинах... «Скифские орды» и «Гуннские полчища» наводнили собою все страны: от Скандинавских фиордов до стен Гибралтара и от Вислы до Темзы слышалась гортанная восточная речь. Скуластые лица и русые бороды пестрели в толпе флегматичных норвежцев и среди черноглазых испанцев. Вновь как будто вернулись времена Атиллы и Тамерлана. Но тогда это были враги всему чуждому, жадные, беспощадные завоеватели и убийцы, — теперь были это друзья, благодатная новая сила, призванная чтобы сбросить с трудящегося человечества последние оковы рабства и гнета.
«Новый строй» — писал современный историк — где единственным мерилом ценности должен стать труд и знание, пришел в Европу так же, как весна приходит после зимы: неизбежно и своевременно...
В мае 1951 года генеральный штаб европейских держав вступил в переговоры с противником о прекращении военных действий. И было пора, так как уже к началу переговоров немалая часть европейских армий положила оружие и даже перешла на сторону наступавших восточных революционных войск.
Дело капитализма в Европе было безнадежно проиграно.
Говорить ли здесь о последующих годах, когда в сотнях миллионах людей проснулся небывалый энтузиазм к строительству нового мира? Сверх ожидания, борьба с остатком старого капиталистического уклада оказалась значительно более легкой. Наиболее активная и разумная часть средней и мелкой буржуазии поняла, что возврата к прошлому нет и не может быть. Необъятно широкие перспективы для приложения своих сил увлекли не только одну впечатлительную молодежь. Рухнувшие границы и искусственные перегородки, настроенные по всему материку Версальским миром и рядом последующих соглашений, — открыли перед промышленностью Европы и Азии немыслимые раньше возможности. Процесс заживления прежних ран, нанесенных взрывом, и последующей всеевропейской войной, пошел такими огромными шагами вперед, что уже через десять лет лицо Европы стало неузнаваемо. Великий Союз Социалистических Республик Европы, Азии и Африки объединял в себе около двух миллиардов народонаселения, — иначе говоря три четверти общего числа жителей земного шара этой эпохи.
Три четверти, но не всех. Защищенные океанами от опасного соседства Азии и Европы, оба материка Америки, Австралия и Япония, во главе с Американскими Соединенными Штатами, стали последним прибежищем и верным оплотом реакции. Все, что не находило себе места в дружной трудовой семье Европейских республик — главным образом верхи промышленной буржуазии, — чиновничество и обломки феодально-дворянских слоев, — все это спешно эмигрировало в Америку, унося с собою вместе с остатками своих «ценностей» — лютую ненависть к новому строю.
Reculer, pour mieux saucer* — утешали себя эмигранты старой Европы, — мы еще вернемся и тогда...
*Отступить, чтобы лучше прыгнуть.
Попытка форсировать берега Америки окончилась, однако, для Восточного Союза полнейшей неудачей. Соединенные флоты Америки, Южных республик, Японии и Англии оказались достаточно сильны, чтобы противостоять революционному флоту, который был наполовину уничтожен в великой морской битве у острова Тринидада, но рабочие волнения внутри страны не позволили Америке развить свой успех, и мир, заключенный в 1953 году на Азорских островах, стал тем непрочным фундаментом, на котором держались международные отношения двух систем народного хозяйства в продолжении почти полувека.
Обе стороны, заключая мир, отчетливо сознавали, что это всего лишь перемирие, и что кто-нибудь должен в конце концов сдаться. Уроки истории не прошли даром капиталистическим странам. Они поняли, что старые методы должны измениться, и со свойственной англосаксам решительностью приступили к перепланировке своего дома, перепланировке, которую поистине можно было бы назвать революционной, если бы она исходила не «сверху», а «снизу»...
Государственный переворот, происшедший в С.А.С.Штатах в 1960 году, порвал с остатками республиканских и демократических идей, поставив во главе управления безответственный Тайный Совет из среды крупнейших магнатов индустрии. Великая Заатлантическая Республика превратилась в Пан-Американскую Империю, и представитель одной из бывших европейских династий сделался, хотя и номинальным, но в достаточной мере представительным «повелителем» четвертой части земного шара. Тайный совет внес некоторую систему в промышленность, декретировал национализацию — горного дела, металлургии и транспорта, выкупил часть паев промышленных предприятий и наделил ими верхи рабочей массы, внося тем глубокий раскол в ее солидарность. Исключительная степень механизации всех трудовых процессов позволила в сильной степени понизить стоимость производства и удешевить все товары, что при высокой заработной плате создавала впечатление полнейшего процветания страны. Но это было лишь внешнее впечатление — капитализм не мог устранить коренной причины многочисленных внутренних противоречий, не устранив самого себя, и вспыхивающие время от времени рабочие волнения, жестоко подавляющиеся идеально налаженными полицейскими организациями, напоминали собою сцены из «Железной Пяты» Джека Лондона, говоря о том, что все это наружное благоденствие (prosperity) таило под собою скрытую угрозу самому своему существованию.
Начало XXI века стало началом новых великих войн, перед которыми все прежние военные столкновения казались детской игрой. Монополия изготовления основных продуктов питания, предоставленная Тайным Советом одному Американскому Тресту, послужила причиной сильного вздорожания этих продуктов, и вместе с волной забастовок повлекла за собою грандиозные волнения в Северных Штатах, перешедшие затем в открытое восстание против существующей власти. Исключительная жестокость, с которой оно было подавлено, вызвало бурю негодования всего остального мира и военное вмешательство Союза Европейских Республик. Но война эта не была удачна для них. Несмотря на отторжение Японии и Австралии от Пан-Американской Монархии, в результате восьмилетней напряженной борьбы, в которой принимала участие большая часть населения, — Америка захватила Ирландию, сделала ее плацдармом для ее будущего наступления на Европу и Азию. Последовавшее затем перемирие даже не скрывало в себе угрозы новой войны. Начинался «последний решительный бой».
Попытка Американских держав отвести воды Гольфштрема для улучшения климата Гренландии, куда предполагалось направить избыток народонаселения, таила в себе страшную опасность для Европы, большей части которой суждено было бы превратиться со временем в холодную тундру, не согреваемую благодетельной лаской теплого океанского течения. Попытка эта действительно, осуществленная силами высоко развитой американской техники, послужила причиной нового ряда войн.
Я не могу здесь долго останавливаться на описании этого героического периода истории человечества. Сохранившиеся стерео-фоно-фильмы воскресили передо мною давно отзвучавшие громы титанических столкновений, и я с замиранием сердца следил с флагманского корабля за репетициями морского боя в Бискайском заливе и за молниеносными перестроениями воздушных эскадр над Аппенинами...
Это было ужасное время, годы невыносимых страданий для миллиардов людей, жестокая и полная лишений эпоха, напоминавшая собою эпоху тридцатилетней войны. Весь мир был втянут в кровавую бойню — фронт был везде и нигде. Смерть угрожала каждому отовсюду, ибо и воздух, и вода, и земля были ареной легендарных боев. Стальной дождь сыпался с неба, волны ядовитого газа затопляли целые страны, и жизнь больших центров уходила под землю, где возникли странные города, с фабриками, заводами, улицами и даже садами, росшими при искусственном солнце. Но жизнь брала свое и, глядя на оживленные толпы, спешившие по ярко освещенным проспектам, я не мог сказать, что это происходило на глубине сотни метров под угрозой отравления смертоносными газами и взрыва подземной сапы...
Осада Парижа, бой у Нового Орлеана, гибель Рио-де-Жанейро, взрыв Панамского и Никарагуанского канала, уничтожение Южно-Американской эскадры, — успехи и поражения, напряженная полевая борьба за победу великих принципов справедливости — все это я перечувствовал, как самую реальную современность...
В неслыханных муках происходило рождение Нового Мира. Ценою миллионов жертв людьми и неисчислимых материальных потерь достался Союзу разгром Пан-Американской Империи. Огромных трудов потребовало также создание нового — теперь мирового порядка. Только в середине XXI века все народы земли могли спокойно вздохнуть, зная, что отныне ничто уже, — кроме стихий, — не может угрожать их мирному труду и свободному творчеству...
Запечатленная во множестве фильмов картина провозглашения Мирового Союза Братских Республик на Берлинском Конгрессе в 2155 году — потрясла меня своим величием и простотой. Ведь перед мною на экране проходили тени события, которого сотни лет ждали миллионы людей...
Корабль истории мира прошел опасную зону и вступил в полосу тихого моря. Дальнейшие века не омрачались больше человеческим взаимоистреблением — великие задачи культурного строительства и борьбы с враждебными силами мертвой природы захватили отныне все творческие силы народов. Прогресс научных знаний, не связанный теперь тяжелыми условиями военного времени, — был исключительно широк и плодотворен. Дерзанию человеческих мыслей не было пределов.
Что сказал бы теперь Дюбуа Реймон о своих семи загадках природы, где теперь положил бы он границы нашему «ignorabimus» (не узнаем)? Овладение огромными запасами солнечной энергии, силой океанских волн, энергией ветра и запасами внутреннего тепла земного шара надолго отсрочили страшную угрозу угольного голода, который мог бы наступить уже в 2600 году.
Миллиарды лошадиных сил неслись по сети проводов, охвативших своей паутиной поверхность земли от полюса до полюса. Разрешение проблемы беспроводной передачи энергии в значительной мере сделало вскоре эту сеть проводов излишней. Особым приемниками в любой точке земного шара можно было извлекать из пространства и силу, и свет. Нижний слой атмосферы был как бы насыщен электромагнитной энергией. Для защиты от вредного действия именно этих излучений на организм, жители Нового Мира должны были носить особую одежду из металлической ткани.
Открытый Токизавой в XXV столетии способ частичного освобождения и управления атомной энергией внес полную революцию в технику того времени. Эта победа стоила жизни великому ученому, но ключ к тайне атома был найден. Урок атомного взрыва в 1945 году был еще слишком свеж, и потому дальнейшие опыты велись с исключительной осторожностью, так что только к началу нашей эпохи, т. е. к тридцатому веку, удалось выработать вполне безопасные способы управления чудовищной силой атома. Опыты эти профессор Антей обещал показать мне в самое ближайшее время.
Я и мой ученый друг, профессор Фарбенмейстер, — оба мы нередко чувствовали себя школьниками, попавшими на университетскую лекцию.
Представьте себе современника Роджера Бэкона, перенесенного из XII в. в наш двадцатый. Дайте ему наши книги, научив его пользоваться ими. Попытайтесь ему объяснить действие лучей Рентгена, технику радио, устройство мотора, расскажите ему о теории Дарвина, о действии желез внутренней секреции,- и спросите его затем: что он понял? Безо всякого ложного стыда скажу, что я чувствовал себя не лучше. Я запоминал и схватывал то, что больше говорило моему примитивному воображению жителя двадцатого века, и равнодушно проходил мимо вещей, неизмеримо важнейших...
Вот еще несколько исторических вех, особенно ярко оставшихся в памяти.
Период XXIII и первой половины XXIV века был исключительно плодотворен. Побеждены были последние болезни и значительно удлинилась жизнь человека, достигавшая к XXX веку продолжительности двух-трех столетий. Стали ясны почти все жизненные процессы, которые теперь можно было регулировать по желанию. Разгаданы были тайны наследственности, и размножение человечества утратило свой стихийно-неорганизованный облик. Евгеника — это столь новая в мое время наука о способах улучшения человеческого рода, уже в XXIII веке легла в основу общественных отношений. Гений человеческого рода, сбросив с себя цепи экономического рабства и паутину многовековых предрассудков, — наконец осознал себя, и забота о грядущих поколениях стала на очередь дня.
Естественный отбор уступил место искусственному. Только лучшее, здоровое, сильное и талантливое получало право на продолжение рода. Все слабое, хилое, больное и вырождающееся, хотя и имело все радости жизни, но не имело лишь права передать свою слабость потомству. Этот железный закон «социальной мелиорации» был принят не сразу, но зато его благодетельное влияние не замедлило сказаться уже через три-четыре столетия — новое человечество, сильное, мудрое и прекрасное населило нашу планету.
Пытливые умы видели уже в тумане веков время, когда земля станет тесной для ее обитателей. Наши ближайшие соседи, Марс и Венера, казалось, могли бы стать первыми очагами межпланетного переселения. Однако, еще долгое время никто не мог утверждать, годны ли естественные условия этих планет для существования там человечества. Первые попытки вырваться из плена земного тяготения были сделаны еще в середине XX века, но судьба этих первых междупланетных экспедиций осталась навсегда неизвестной. В середине XXIII века попытки эти увенчались успехом — человечество узнало, что оно не одиноко в пустынях мирового пространства. Марс наконец открыл свои тайны. Это была великолепная новая цивилизация, новый загадочный мир, новая культура, близкая, однако, к упадку и исчезновению...
Новое человечество к XXX веку овладело такими познаниями, стало властелином над такими великими силами, что иногда, как в первые минуты нашего появления, я готов был подумать, будто новая раса полубогов населила старую Землю...
Как зачарованный, слушал я эту повесть о минувших, но мне еще незнакомых, веках. Новое человечество! Твою поступь слышал я в рассказах старого мудреца...
В один из вечеров, когда мы, — т. е. проф. Фарбенмейстер, Фер, Рея и я, по обыкновению собрались в полукруглом зале, быстрыми эластичными шагами вошел наш хозяин и радостно объявил нам, что сейчас пришло распоряжение Главного Совета Механополиса (так звалась столица области Центральной Европы) о том, чтобы через две недели мы были бы представлены общему собранию его членов.
— Наконец-то мои дорогие друзья, — заявил профессор Антей, — я воочию могу показать вам наш мир, о котором вы пока только слышали из моих рассказов и книг. Я, к сожалению, не могу сопровождать вас в этой поездке, — но Рея, я думаю, не откажется сопутствовать вам и быть руководителем ваших первых шагов.
— Отец! Неужели мне нельзя также поехать с Антреа? — раздался огорченный возглас Фера.
— Конечно, мой мальчик, — если ты хочешь...
— О, разумеется, хочу, мы увидим еще великое состязание в Адептее. Как хорошо!
И Фер радостно схватил мои руки.
Я так же был рад тому, что брат Реи будет сопровождать нас, так как за время нашего пребывания под крышей белого дома я искренно полюбил милого, умного юношу. Говорить ли еще о моей радости, что это путешествие, которого я так желал и боялся, — не повлечет за собою разлуки с моей милой подругой?...
Наконец мы уезжаем... Мое первое знакомство с летающими людьми. Кое-что об успехах авиации последних веков. Воздушные гиганты. Реактивные двигатели. Прилет аэронефа. Мы знакомимся с его капитаном и внутренним устройством. Первые впечатления полета. Где же Берлин? Безграничная панорама садов. Города XXX века. Как и для чего работают в Новом Мире. Работа — радость творчества. Воздушный хоровод. Видение из мрачного прошлого.
Итак, мы наконец едем...
Сегодня вечером в наш уединенный монастырь, как я в шутку называл лабораторию старого профессора Антея, прилетает воздушный корабль, чтобы отвезти нас в Механополис.
Наконец-то я воочию увижу этот новый мир, о котором до сих пор я слышал только из рассказов, чье смутное и неполное изображение я видел пока в мерцании электро-экрана...
Феру пришла отличная мысль — ехать за несколько дней до назначенного нам срока, чтобы успеть показать нам несколько чудес XXX века, которые мне, как инженеру, было бы особенно интересно увидеть. Собственно говоря, мне хотелось бы узнать гораздо больше, охватить все яркое великолепие и многообразие новой жизни. Я, точно ребенок, перед которым рассыпали ворох разноцветных новых игрушек, готов был жадно тянуться к каждой из них, не зная, на чем остановить свое внимание раньше всего...
Из описаний и рассказов я знал, что авиация за эти десять веков сделала такие успехи, которые с трудом вмещались в моем сознании. Какими смешными и жалкими должны были бы показаться теперь наши неуклюжие механические птицы с их грохочущими моторами, так неохотно отрывавшиеся от земли и так боязливо на нее садившиеся!
Время от времени я видел над собою какие-то странные птицевидные силуэты, с непостижимой быстротой исчезавшие в синей дымке далекого горизонта. Ночью на черном бархате неба они, точно падающие звезды, мелькали своими цветными огнями, бросая иногда вниз ослепительно яркий луч света. Но однажды мне довелось увидеть еще более поразительное зрелище. Мне не спалось. Было совсем рано. Легкая роса серебристой паутиной еще покрывала траву, и поющие цветы еще продолжали звучать, точно приветствуя первые солнечные лучи, озарявшие темно-зеленые своды деревьев. Я сел на одну из каменных скамей около площадки для игры в мяч, и мысли мои как-то невольно унеслись в далекое прошлое. Но вот постепенно к тихому шелесту листьев и замирающему пению цветов стали примешиваться новые звуки... Это было пение. Радостный хор человеческих голосов раздался чуть слышно, где-то неподалеку, пение становилось все громче и громче. Я с изумлением оглянулся по сторонам, но в саду по-прежнему не было никого, кроме меня. Между тем, я совершенно ясно различал даже отдельные голоса. Случайно я поднял голову и остолбенел от изумления. В золотистой сиянии утра, на фоне темно-синего неба, в воздухе надо мной реяла толпа крылатых существ. Люди? Лесные эльфы? Но разве эльфам место в изощренном тридцатом столетии? Десятка два юношей и девушек в сверкающих разноцветных кирасах, с огромными крыльями, прикрепленными к небольшому ранцу за спиной, переплетаясь причудливой гирляндой, тихо неслись по воздуху навстречу восходящему солнцу, то взлетая, то почти касаясь верхушек деревьев... Легкие взмахи белоснежных крыльев своим чуть слышным шелестом не заглушали согласного хора поющих. Зрелище это было настолько прекрасно, что я не мог удержаться от крика восторга, невольно протянув свои руки вслед уплывающему чудесному видению...
Это было мое первое знакомство с летающими людьми. От Реи и Фера я узнал, что искусством истинного полета, приближающимся к искусству полета птицы, человечество овладело лишь с той поры, когда удалось создать сверхлегкий аккумулятор электрической энергии и такой же электрический двигатель, свободно умещающиеся в небольшом спинном ранце. Два мощных крыла, связанные с двигателем, давали необходимую подъемную силу, а дальнейшее стало делом искусства летающего. И вот уже несколько столетий, как человечество получило, наконец, возможность покинуть поверхность земли и из скучного двумерного пространства перенестись в радостное пространство трех измерений. Раньше человек мог двигаться налево-направо, вперед-назад, но даже самый искусный прыгун не мог оторваться от земли больше, чем на 2 метра. Теперь люди-птицы свободно реяли в воздухе, рассекая его своими белыми крыльями..
— Милый Фер, — говорил я, — неужели этому искусству может научиться всякий, кто пожелает? Неужели и я...
— Ну, конечно, Антреа, подожди лишь немного, — отвечал он, — скоро мы все — я, ты и Рея наденем белые крылья, и ты увидишь, как все это просто. Не надо только бояться... Но я, если чего и боялся, то только того, что придется еще слишком долго ждать наступления этого прекрасного мига...
— Крылья — это только игрушка, — говорил мне Фер. — На них нельзя летать долго и быстро. Это скорее спорт, чем серьезное средство передвижения. Вот, когда ты увидишь настоящий аэромобиль...
Действительно, уже к середине XX века, авиация достигла максимума того, что ей могли дать моторы внутреннего сгорания и пропеллеры обычного типа. Войны той эпохи подстегивали фантазию конструкторов, и из авиационных мастерских выходили аппараты, поражавшие воображение современников. Вот несколько этапов авиации будущего. Нефтяной мотор уже к 1935 году почти всюду вытеснил мало экономичный и хрупкий бензиновый двигатель. Полкилограмма на силу и сто граммов горючего на силу-час были предельными достижениями этих моторов. Что касается надежности их непрерывной работы, то она измерялась уже не часами, а сутками. В 1932 году был осуществлен первый кругосветный полет без спуска в продолжение 42 часов, и к тому же времени относится начало регулярных трансатлантических рейсов. В авио-конструкциях легкие металлические сплавы и специальные сорта стали совершенно вытеснили дерево и полотно, оставив их лишь для внутренней отделки кают. Стоместные пассажирские аэропланы сделались такими же обычными, как шестиместные юнкерсы нашего времени. Проект Румпдера о создании воздушного левиафана в 10.000 лошадиных сил, весящего 115 тонн и обладающего скоростью полета в 275 километров в час, проект, казавшийся утопическим еще в 1926 году — через пять лет не вызывал уже никаких возражений. Успехи технологии материалов и глубокое проникновение в законы аэродинамики позволили сооружать настоящие воздушные дредноуты, где все механизмы, пассажиры и багаж были упрятаны в толще крыла. Во второй половине XX века появились аэропланы в десятки и сотни тысяч лошадиных сил и грузоподъемностью в тысячи тонн, переносившие за 24 часа целые толпы пассажиров из Нью-Йорка в Париж. Эти же воздушные чудовища сделались грозной и решающей силой в вооруженных столкновениях того времени. Все выше и выше забирались воздушные корабли, так как на больших высотах уменьшалось сопротивление воздуха и являлась возможность увеличивать скорость полета. Мысли Брегэ, известного французского конструктора аэропланов, о преимуществах высоких полетов, получили блестящее подтверждение в кругосветном полете, совершенном молодым бельгийским летчиком на высоте 12000 метров, со скоростью 500 километров в час. Дальнейшие успехи авиации были еще поразительнее. Изобретение реактивного двигателя, действующего наподобие ракеты отдачей вылетающих газов, и использование в качестве топлива специальных взрывчатых веществ, позволили осуществить долгожданное «стояние-висение» аппарата в воздухе, что до сего времени удавалось лишь малонадежным геликоптерам. Только с этого момента воздушный корабль стал оправдывать свое название, звучавшее в наше время, по правде сказать, немного преувеличенно. Современные воздушные суда особенно с XV века, когда в распоряжение авиоинженера поступил сверхлегкий электро-аккумулятор, сделались, наконец, одним из наиболее действительных и надежных средств быстрого передвижения.
И, вот, настал день нашего отлета.
Наши сборы с профессором Фарбенмейстером были не долги. Несколько рукописей и книг, да кое-какие принадлежности одежды и туалета, которыми нас снабдил гостеприимный хозяин, были нашим единственным багажом. Хрономобиль давно уже был упакован со всеми предосторожностями в особую камеру и должен был вместе с нами отправиться в Механополис. Старый профессор Антей должен был присоединиться к нам немного позднее.
Утром, когда солнце уже стояло довольно высоко, над нашим домом раздалось какое-то низкое гудение и на лужайку упала узкая тень медленно подходившего воздушного корабля.
Он был длиной около 30 метров и своей формой напоминал рыбу с двумя толстыми короткими крыльями по бокам. Нижняя ее часть равно, как и крылья, была сделана из какого-то серебристо-белого металла, а верхняя половина состояла, главным образом, из прозрачного материала, сквозь который были видны внутренние крепления остова. Я не заметил никаких винтов и рулей, кроме легкого оперения на хвосте. Вместо них по бокам аэромобиля виднелись лишь овальные отверстия газовых эжекторов реактивного двигателя.
Я выбежал навстречу плавно опускавшемуся кораблю, но тотчас же был почти отброшен назад потоком теплого воздуха и пара, вырывавшимися из нижних отверстий. Еще секунда и корабль мягко опустился на эластичные выдвинувшиеся снизу рессоры. Капитан воздушного судна, близкий приятель Фера, с любопытством рассматривал диковинных выходцев из давно минувших времен. Рени, так звали юного капитана, оказался чудесным малым и, заразительно смеясь, сообщил нам за завтраком, что приятно разочарован, ожидая увидеть здесь нечто иное.
— Я думал, — сказал он, — что жители XX века выглядят совершенно иначе.
— Что же ты полагал, — издевался над ним Фер, — что они должны ходить на четвереньках, одетые в шкуры, и есть исключительно сырое мясо убитых животных?
— Нет, но....
— А вот за то, что ты был такого низкого мнения о наших гостях, ты должен будешь по дороге в Механополис завезти нас кое-куда, где они могли бы познакомиться с некоторыми сторонами нашей жизни, о которой им известно пока понаслышке.
Рени охотно обещал исполнить наше желание, и, чтобы не терять времени, мы решили отправиться в этот же вечер. Дружески простившись со старым Антеем, мы четверо — я, профессор Фарбенмейстер, Рея и Фер, в сопровождении Рени взошли на воздушный корабль. Внутри он оказался гораздо больше, чем я это мог судить по наружному виду. Переднюю его часть занимала кабина пилота с многочисленными автоматическими приборами и указателем скорости, наклона и направления, близости земли и т. д. Кабина была покрыта каким-то очень прозрачным материалом, так что создавалось впечатление, будто находишься на открытом воздухе. Рядом было помещение для газовых реактивных двигателей, управление которыми было настолько просто, что даже не требовало присутствия механика на борту корабля. Дальше шли четыре пассажирских каюты, уборная, ванна и помещение для багажа. Последнее было так просторно, что там поместился наш хрономобиль, втащенный туда посредством небольшого подъемного крана.
Рени поместился у рычагов управления. Несколько, едва слышных взрывов, свист газа, — трава и ближайшие кусты пригибаются к земле, как от порыва сильного ветра, легкий толчок, и фигура профессора Антея, стоящего на краю лужайки, медленно уходит куда-то вглубь. Вот мы уже над вершинами деревьев, вот уж под нами здание лаборатории, узкой полоской мелькает стена, отделявшая нас от остального мира. Соседние куполообразные здания кажутся небольшими белыми пузырями. Все выше и выше... Наконец, я снова вижу синеватую линию горизонта, и необъятная ширь расстилается справа и слева...
Но где же город? Где же Берлин? Где величественные многоэтажные здания, где гигантские небоскребы, уходящие в небо, где улицы на высоте сотни метров, которые я видел на электро-экране? Зеленое море деревьев с белыми лентами дорог расстилалось внизу подо мною. Только там и сям сквозь листву мелькали неясные силуэты домов-коттеджей. Время от времени зеленое море раздвигалось, и тогда обнажались площадки и лужайки, служившие скорей для прогулки, чем для пастбища. Местами виднелись какие-то величественные здания причудливой незнакомой архитектуры, — общественные собрания, музеи, театры, как объяснила мне Рея. Километр за километром пролетали мы по направлению к западу, но картина почти не менялась. Серебрились излучины Шпрее, вспыхивали солнечные отблески на стеклянных крышах домов, и снова повсюду этот зеленый ковер. Изредка однообразие зеленого моря прерывалось то темными, то красно-оранжевыми полосами каких-то растений. В чередовании этих тонов чувствовалась какая-то закономерность и общий план; казалось, что под нами медленно проплывает гигантский ковер с замысловатым узором, ковер, сотканный волей человека и ласкою солнца.
Рени, чтобы дать нам возможность вглядеться в лик Нового Мира, нарочно едва скользил над землею, временами опускаясь так низко, что мне становилось видно движение экипажей и людей на дорогах. По ровному, как стекло, полотну дорог бесшумно катились причудливо украшенные механические экипажи; они приводились в движение никак не бензином, иначе я сразу бы почувствовал его характерный, приторный запах. Я попросил Фера дать мне несколько объяснений.
— Ты спрашиваешь, Антреа, — ответил он на мой вопрос, — куда исчезли большие здания городов твоего времени? Ну, за океаном ты еще увидишь остатки их в Неополисе или в бывшем Нью-Йорке. Но и эти здания сохраняются там скорее, как исторические памятники, — не больше. Нужда в крупных центрах с невероятно скученным населением, буквально сидящем друг у друга на спинах, давно уже исчезла из нашего быта. С тех пор, как пути сообщения сделались настолько быстрыми и удобными, что в несколько минут можно было очутиться за много десятков километров от центра, тяга из городов сделалась чем-то стихийным... В душных, пыльных городах с их мертвящими каменными громадами старались оставаться как можно поменьше. Зеленые пригороды неудержимо манили всех своим чистым воздухом и простором. В ваше время это было уделом лишь обеспеченных классов, но скоро жизнь за городом сделалась доступной даже и для рабочих. Города-сады и города-дороги, после первых неуверенных попыток, сделанных в разных странах Европы в начале XX века, постепенно, через два-три столетия, стали наиболее любимым и распространенным способом расселения...
Дешевизна и общедоступность легких автомобилей и маленьких аэропланов сделали то, что уже в конце XX века рост населения крупных городов почти всюду остановился. Чудовищному их перенаселению, достигшему к тому времени в некоторых центрах, вроде Нью-Йорка и Лондона, 2030 миллионов жителей, пришел свой конец, особенно с той поры, когда окончательно было уничтожено частное землевладение. Кончились спекуляции с городскими землями и началась эпоха планомерного строительства городов. Появились новые культурные и промышленные центры. Группы людей, объединенных общей работой или общими культурными запросами и интересами, соединялись в общины и при содействии государства, иначе говоря союза отдельных общин, приступали к постройке своих небольших городов и селений. Некоторые из этих новых городов потом исчезали, другие, построенные на более солидных и прочных условиях, ширились и процветали.
— Подожди, — прервал я речь Фера, — а что же сделалось с административными учреждениями, заводами, банками, музеями и театрами?
— Ну, — улыбнулся Фер, — наш общественный строй не нуждается в прежних бюрократических аппаратах. Самоуправляющиеся отдельные общины отлично справляются со своими местными задачами. Для более крупных вопросов созываются соединенные общинные советы в одном из ближайших городов, делами областей ведает областной Совет, а над ними стоит верховный Совет, имеющий свое постоянное местопребывание в Механополисе. Ты что-то упомянул о банках? Это ты, наверное, по старой привычке. Банки нам теперь не нужны с тех пор, как мерилом ценности предмета сделался труд, вложенный в его изготовление, и особенно с той поры, когда золото перестало быть драгоценным металлом. Твой вопрос о заводах гораздо серьезнее. Существуют еще несколько групп промышленных процессов, как, например, в области металлургии, машиностроения и химической технологии, где необходимо сосредоточение большого количества работающих в одном месте. Я говорю — большого — лишь относительно, так как теперешние производственные процессы настолько упрощены. И механизированы, что там, где в ваше время требовалось десять человек, теперь необходим лишь один, и то исполняющий больше роль надсмотрщика за правильной работой машин-автоматов. Ну, их ты и сам скоро увидишь... Значительная часть необходимых для человека работ, особенно по изготовлению тканей, разных вещей домашнего обихода, произведений искусства и многих других предметов, делается теперь не на фабриках, а дома, полукустарным способом.
Я выразил мое глубокое изумление подобной системе, признававшейся в наше время отжившей формой производства по сравнению с крупными централизованными и механизированными предприятиями.
— Ты был бы прав, — ответил мне Фер, — если бы мы жили в вашу эпоху или в эпоху, близкую к ней. Но сейчас отпал один из самых крупных факторов промышленности капиталистического периода. Я имею в виду конкуренцию и погоню за прибылями со стороны предпринимателя. Конечно, нет спора, что многие вещи, например, вот хотя бы эта твоя украшенная чеканкой кираса, могли бы быть изготовлены на большом заводе и тысячами рабочих и станков-автоматов. Но все дело в том, — при этом Фер улыбнулся, — что мы сейчас уже достаточно богаты знанием, материалами, разными запасами, наконец, неистощимыми источниками энергии и имеем достаточно свободного времени, чтобы позволить себе в те часы, когда мы не обязаны выполнять какой-нибудь коллективный необходимый труд — на это, в среднем идет не более одного-двух часов в день, — работать над тем, что нам более всего по душе. Вот, так мы и делаем многие вещи, для которых не нужны громоздкие машины и аппараты. Утром я отбываю свою трудовую повинность на одном химическом заводе в 200 километрах от нашего дома, куда летаю на своем одноместном аэроцикле, а днем помогаю отцу в лаборатории и изготовляю некоторые части электротехнических приборов. Части эти я затем отсылаю в центральный распределительный склад откуда они идут в сборочные мастерские и проверочные лаборатории. Правда, я трачу иногда на изготовление того или иного предмета втрое больше времени, чем я потратил бы его, стоя у станка на заводе, но тогда бы вещь не имела той цены и в моих глазах, и в глазах других людей, которую она теперь имеет, выйдя из моих рук.
— Цены? — переспросил я, — но о какой цене может идти речь в вашем новом общественном строе? И все-таки я не пойму, зачем тратить на работу два часа, когда можно ее сделать в один час?
— А зачем ты тратишь на прогулку, которая тебе доставляет радость два часа, а не один? Зачем ты иногда идешь пешком, когда мог бы проехать в автомобиле? То же самое и здесь — всякая работа, если она связана с творчеством, для нас, людей XXX века, самая чистая, самая глубокая радость. Если мы делаем какую-нибудь вещь, то мы хотим, чтобы она не только была годна, но чтобы в ней остался отпечаток нашего творческого «я». Вот, почему ты можешь увидеть предметы и даже части машин, украшенные рукой артиста, предметы, которые не только приносят пользу, но также и радуют взор окружающих...
— Вот, взгляни на этот воздушный корабль, — Фер схватил меня за руку и повлек к прозрачной стенке каюты. — Разве он не прекрасен, разве эти украшения корпуса не напоминают собою оперение лебедя? Тот, кто их делал, знал, что трудился не понапрасну. Мы глядим на его произведение и мысленно шлем благодарность неизвестному художнику, запечатлевшему на этом аэронефе искру своей богатой фантазии...
Я начинал понимать... Теперешний труд — это свободное творчество, потребность, необходимость... Трижды счастливые дети новой земли! Вы сбросили с себя проклятие веков, вы уничтожили бремя подневольной работы! Ни нужда в куске хлеба, ни плети надсмотрщика, ни алчность предпринимателя не висят более над свободным трудом человека!..
В этот момент мы медленно пролетали над какими-то длинными серыми корпусами. Глухое гудение, несшееся оттуда, не оставляло сомнения, что это какой-то крупный завод. По-видимому, происходила смена работающих очередей. Со всех сторон слетались и съезжались рабочие новой смены. На ровной прозрачной крыше столпилось несколько десятков молодых девушек, спешно прилаживавших к своим плечам знакомые уже нам летательные крылья. Еще несколько секунд, — и все они, точно хлопья пуха, поднялись и устремились навстречу нашему кораблю. Вот уж они над нами, — схватившись за руки и звонко смеясь, они кружатся веселым хороводом над нашими головами, заглядывая в каюту, откуда мы шлем им свое приветствие...
И мне представилась другая картина. Моабит — предместье Берлина. Полдневный гудок. Широкая пасть заводских ворот раскрывает свои железные челюсти. Толпа бедно одетых, утомленных существ с землистыми лицами и развинченными движениями грязно-серым потоком выплескивается на скользкую, блестящую от грязи мостовую. Слышны крики и топот тяжелой обуви. Кто-то пробует запеть уличную частушку, но обрывает ее на половине замысловатым ругательством... И над всем серая паутина дождя... Это прошлое...
Металлургический завод XXX века. Куда исчезли доменные печи? Мир без каменного угля. Чем заменили исчезнувший каменный уголь? Водородная плавка. Уголь из атмосферной углекислоты. Механическая мастерская XXX века. Новые материалы. В тысячу раз прочнее стали. Прозрачное железо. Легкие сплавы. За железом в недра земли. Как была сооружена шахта в 2000 километров глубины? Памятник жертвам труда.
Скоро зеленая заросль сделалась реже, но зато все чаще начали попадаться массивные заводские здания, трубы, необъятные круглые баки, гигантские каменные конуса, — стало слышаться глухое гудение, и в воздухе явно почувствовался запах озона с примесью еще какого-то газа.
— Сейчас мы пролетаем над нашими крупнейшими металлургическими заводами, — объяснил Рени. — По величине и производительности с ними могут соперничать лишь заводы в области Аретии — область эта в ваше время носила имя западной Сибири.
Я изумился тому, что не вижу характерного облака дыма и пара, составлявших необходимую принадлежность всякого, более или менее крупного завода в мое время.
— Дыма? — переспросил меня Рени. — О, с ним давно уже покончено, — и навсегда. Еще в эпоху великих войн двадцатого века облака дыма почти исчезли из пейзажа городов и заводов, чтобы переместиться на поля сражений, служа маскировкой для войска и воздушных судов. Такие дымовые завесы успешно применялись даже в первую мировую войну, когда в них скрывались целые боевые эскадры... Но уже ваши техники поняли, что дым — это не что иное, как расточение народного достояния, так как с дымом и пылью уносилась изрядная доля несгоревшего топлива и других материалов. При помощи электрических пылеуловителей они вполне удачно разрешили эту задачу, сэкономив для промышленности много миллионов тонн угля и разных металлов. С того времени воздух над городом и над заводскими центрами стал почти таким же чистым, как в лесу и в деревне. Больше того: даже бесполезно теряемую углекислоту сумели заставить служить на пользу людей. Газы доменных и металлургических печей очищались и делились на составные части, — горючие газы поступали в двигатели внутреннего сгорания, а углекислота по длинным трубопроводам шла на поля и огороды, где под влиянием солнца в несколько раз увеличивала их урожайность. Это как раз те самые длинные, извивающиеся по земле трубы, которые ты здесь видишь, но их делают все меньше и меньше, так как уголь — будь то в промышленности или домашнем быту, давно уже уступил свое место другим источникам теплоты.
Мы с профессором Фарбенмейстером попросили нашего капитана сделать здесь небольшую остановку, чтобы хоть бегло ознакомиться с современным крупным заводом.
Рени охотно исполнил наше желание, и через несколько минут его аэронеф с характерным свистом, взметывая облако пыли, садился на землю перед крупным величественным зданием, где было сосредоточено управление всем огромным заводом.
Еще до спуска, Рени по беспроволочному телефону известил кое-кого о нашем прибытии; поэтому нас встретило несколько человек, по-видимому принадлежавших к администрации. Это было все то же рослое, крупное поколение людей Нового Мира, с широкими, свободными движениями и ясными, открытыми лицами. Одежда их состояла из такой же металлической кирасы и шлема, только вместо плаща сверху была ещё одежда из глянцевитой, плотной материи, захваченной у запястья рук и на щиколотках.
Солнце уже довольно низко склонилось к горизонту, и мы не заставили себя очень упрашивать, когда нам предложили после осмотра завода остаться здесь на ночь.
Насколько я мог понять из объяснений, это была совокупность десятка заводов, связанных между собою общим характером производства и близостью необходимых сырых материалов.
Свой осмотр мы начали с добычи угля и получения железа, этой основы промышленности двадцатого века. Вначале меня поразила больше всего та чистота, которую я не ожидал встретить здесь, помня о несмываемой копоти, покрывавшей все здания наших старых заводов. А куда же девались исполинские башни доменных печей и коуперов с их сетью трубопроводов, с их ажурной паутиной железных ферм и эстокад?
Высокий пожилой инженер, шедший рядом со мною и почему-то удивительно напоминавший мне одного из безусых казаков — запорожцев известной Репинской картины, рассеял мои недоразумения.
— Угля, — начал он, — на нашей планете оказалось, к сожалению весьма немного. Потребление его для целей промышленности и для нужд отопления достигло уже в 1920 году полутора миллиарда тонн, и ученые того времени предсказывали, что через 700 — 800 лет последняя вагонетка этого черного минерала будет вывезена на поверхность земли, чтобы занять место под стеклом витрины геологического музея на ряду с ископаемыми остатками когда-то живших чудовищ. Но их расчеты, основанные на известных в то время залежах каменного угля и тогдашнем темпе развития техники, оказались, однако, слишком оптимистичными, так как необычайный расцвет промышленной жизни и все растущая потребность в железе сократили этот срок почти вдвое. Обнаруженные в области южного полюса огромные залежи угля отсрочили момент его полного исчезновения еще лишь на четыре столетия, но уже в XXVII веке угольная промышленность окончательно замерла, и мировая техника, нуждавшаяся в угле, принуждена была обратиться к другим методам и материалам.
— Но чем же вам удалось заменить уголь — хотя бы в процессах восстановления железа из его руд?
— Мы заменили уголь водородом.
— Водородом? Но ведь это в невероятной степени должно было увеличить стоимость металла? Мы могли позволять себе эту роскошь только в лабораторных условиях...
— Да, это было бы так, если бы получение водорода не сделалось чрезвычайно простой и дешевой операцией, благодаря тем огромным источникам всякого рода энергии, которыми обладает современное человечество. Солнечные силовые станции экваториальной зоны, подземные тепловые и океанские волновые централи дают нам электрическую энергию; последняя разлагает воду на кислород и водород, служащие нам в ожиженном состоянии лучшим топливом, какого только можно желать — легким, теплотворным, бездымным и легко регулируемым.
Действительно, возразить было нечего. Я припомнил, что килограмм лучшего сорта угля давал не больше 8000 калорий, тогда как килограмм водорода выделяет почти в четыре раза больше тепла, не давая в остатке ничего, кроме восьми килограмм горючего пара...
— На всех крупных заводах имеются свои станции, — продолжал свои объяснения мой спутник, — где вырабатываются и заготовляются запасы водорода и кислорода. Там, где идут восстановительные процессы, как, например, при получении железа из его руд, там мы пользуемся чистым водородом, для плавки и резки металлов мы употребляем гремучий газ, а также пламя электрической вольтовой дуги.
Мы подошли тем временем к одной из таких печей. По внешнему виду она мало напоминала собою наши прежние доменные печи. Измельченная в мелкий порошок руда непрерывным потоком падала в узкую шахту; здесь навстречу ей неслись струи раскаленного водорода, почти мгновенно освобождавшего частицы железа, сыпавшиеся вместе с остальными примесями на дно шахты; отсюда вся смесь шла в магнитные сепараторы, отделявшие козлищ от овец: чистый железный порошок сыпался в одну сторону, а остальные примеси — в другую. Дальше я видел, как полученное, таким образом, химически почти чистое железо шло в электрические печи, где без доступа воздуха сплавлялось в большие слитки, которые поступали в другие отделения завода для дальнейшей обработки. Здесь же нам показали, как шла работа смешивания чистого железа с молекулярной мелкой пылью других веществ, вроде углерода, вольфрама, титана и пр., придававших будущему сплаву требуемое качество стали. Почти всюду плавка шла в огромных электрических печах, при чем около них я видел очень мало рабочих — настолько механизированы были все операции по загрузке, перемешиванию и литью. И снова это полное отсутствие копоти. Чистые, огромные и светлые помещения, залитые морем света, мало чем напоминали наши старые мрачные мастерские. Бесшумно скользили над головой гигантские краны, с легким шорохом извивались ленты конвейеров, и только изредка начинало звучать и тотчас же умолкало резкое пение не отрегулированной вольтовой дуги электрической печи.
Но неужели уголь так-таки окончательно исчез из человеческого обихода? Неужели снова, как 1500 лет тому назад, растения сделались единственными, верными поставщиками этого ценного вещества?
— Растения, — ответил мой спутник, — конечно, нет. Мы слишком любим и ценим зеленый ковер нашей планеты, чтобы подвергнуть его снова варварскому истреблению прежнего времени. Деревья — наши друзья и украшение нашего дома. Да их, все равно, было бы слишком мало для удовлетворения потребности современного человечества в угле. Наука давно уже раскрыла тайну листьев растений и теперь, совместным действием света и электричества, мы можем извлекать из углекислоты, находящейся в атмосфере, любое количество углерода. Химия еще в наше время, в XX веке, овладела целым рядом тайн и секретов природы. Последующие века тоже не прошли бесследно для этой науки. Наша техника легко и свободно справляется с такими задачами, о которых вы не могли и мечтать. Ты уже знаком с некоторыми ее успехами в области изготовления искусственной пищи, поэтому не удивишься тому, что теперь нет такого материала и даже химического элемента, которые не могли бы быть искусственно изготовлены на наших заводах.
Мы вошли в следующий корпус.
Под стеклянной выгнутой крышей тянулись длинные полупрозрачные трубы, неясно мерцавшие тусклым фиолетовым блеском. Ряды шарообразных стальных камер, целая заросль изогнутых труб и паутина электрических проводов уходили вдаль, теряясь в сумраке вечера.
— Здесь идет извлечение углерода из атмосферной углекислоты. Последняя в сжатом состоянии идет по этим трубопроводам, где подвергается ряду последовательных химических и физических операций, в результате которых мы можем иметь углерод в чистом виде или в форме его различных газообразных и жидких углеводородных соединений. Наши угольные копи лежат, как вы видели, на поверхности земли, под ясным солнечным небом. О старых шахтах, о взрывах в копях, о горах черного угля с отпечатками когда-то живых растений мы читаем лишь в книгах, так же, как вы в свое время читали об изнурительных работах по постройке египетских пирамид...
— Неужели они еще сохранились? — перебил я рассказчика.
— Они сейчас выглядят даже лучше, чем в ваше время, — вмешался Фер, — так как в XXI веке им придали былое великолепие, облицевав плитами мрамора, сорванного когда-то хищными арабскими завоевателями.
— Само собою разумеется, — продолжал наш руководитель, — для такого извлечения углерода нам надо затратить немалое количество энергии извне. Но ведь уголь нам сейчас не нужен в качестве источника тепла, а наши запасы энергии неистощимы...
Новые корпуса, новые отделения завода.
Конца краю не было этим легким, изящным и вместе с тем таким монументальным зданиям, перекрытым смелыми, прозрачными сводами.
— Ты, кажется, особенно интересовался нашими механическими мастерскими? — обратился ко мне с полувопросом один из инженеров. — До них еще несколько километров, поэтому я предложу вам поехать туда в поезде для перевозки изделий.
С этими словами он нажал какую-то кнопку, сказав несколько слов в стенной рупор, и через две-три секунды перед нами остановилась небольшая платформа, наполовину груженая брусками какого-то серого металла. Еще секунда, платформа ринулась в полутемный тоннель и вскоре остановилась у широкого темного здания, откуда слышался знакомый мне грохот и лязг металла, упорно сопротивлявшегося стремлению людей придать ему новую форму.
Сперва, после полумрака тоннеля, я не мог ничего разобрать. Освоившись с ярким светом, заливавшим все необъятное помещение мастерской, куда могло бы поместиться целиком два-три наших завода, я увидел сотни станков, пиливших, резавших, стругавших, сверливших, фрезеровавших, точивших и полировавших куски металла самого разнообразного размера и вида... Сверху, сбоку, снизу — отовсюду шли движущиеся ленты и цепи, подхватывавшие полуготовые части и переносившие их от одной машины к другой. Почти все операции шли автоматически. Фордовские станки и его пресловутые конвейеры могли бы дать лишь слабое представление об этой изумительной, полной механизации человеческого труда. Я безмолвно шел вдоль ряда этих почти одухотворенных стальных созданий; осмысленность, быстрота и точность движения их отдельных частей подавляли меня. Я вгляделся в лица работающих — спокойные, уверенные движения, никакого напряжения и спешки. Нас приветствовали поднятием руки и провожали ласковым взглядом. Этот взгляд, как я потом заметил, был характерен для большинства жителей Нового Мира. Та настороженность и недоверчивость, — в лучшем случае хорошо имитированное добродушие, которое чаще всего мелькало в лицах моих современников, уступили место истинной ясности духа, действительному чувству всеобщего братства и взаимной симпатии...
Некоторые механизмы поражали своими размерами. Я видел пресс, шутя плющивший глыбу стали величиной в добрый вагон, — токарный станок, бесшумно обтачивавший длинный стальной вал, толщиной в рост человека и весом, наверно, не в одну сотню тонн, — видел части будущих таких огромных машин, что не верилось — неужели для них найдется достаточно прочный фундамент? Вот машина с десятками гибких стальных рук, — точно зрячая берет она с движущей ленты отдельные машинные части и с математической точностью ставит их на свое место. В несколько минут бесформенный, испещренный отверстиями металлический остов обрастает рычагами, колесами и осями. Еще минута, и машина плавно скользит куда-то, вниз под пол...
Я готов был здесь провести хоть всю ночь — легкую усталость, которую я было почувствовал, сняло точно рукой. Но профессор Фарбенмейстер завел оживленный спор о каких-то молекулярных прессах с одним из наших новых знакомых и настойчиво тянул меня к выходу, обещая, что сейчас мы увидим действительно нечто удивительное.
Неохотно расставшись с этим машинным грохочущим раем, я последовал за нашими спутниками. Мы направились к группе высоких зданий, разбросанных в полкилометре от механической мастерской.
— Сейчас вы увидите, — рассказывал нам по дороге Рени, — отделение завода, где вырабатываются новые искусственные материалы, необходимые для нашей промышленности. Уже в ваше время техника не могла довольствоваться теми материалами, которые природа давала в распоряжение человека: ты, Антреа, конечно знаешь, что, например, медь, или железо не всегда могут быть использованы в чистом своем виде.
Несколько тысяч лет тому назад, прибавляя к меди немного олова, человек научился приготовлять твердую бронзу, а сочетая железо с разными примесями других металлов, ему удалось, создать сталь самого разнообразного качества. Легкие металлы — алюминий и магний — могли сделаться самыми распространенными металлами нового времени только оттого, что их собственную незначительную крепость удалось во много раз увеличить прибавлением некоторых других элементов. В настоящее время мы пошли еще дальше — мы вникли не только в то, какие частицы должны входить в состав того или иного сплава, но так же и в то, как они должны быть между собою расположены. И вот мы обладаем теперь сталью и легкими сплавами в сотню раз более прочными, чем сталь и сплавы вашей эпохи. Мы имеем сейчас гибкое стекло, прочнее железа и сталь, более прозрачную, чем стекло. Неорганизованные толпы молекул мы заставили работать по строгому плану и...
— Одним словом, употребляя сравнение из вашей эпохи, — перебил говорящего неугомонный Фер, — одним словом, частицы прежних сплавов можно было сравнить с разрозненной толпой, тянущей канат, а молекулы наших металлов действуют, подобно солдатам воинской части: дружно и согласовано...
— Достигается это довольно сложной обработкой, — продолжал Рени, — при помощи высоких температур и давлений в мощном электрическом поле. Надо вам сказать, что легкие сплавы сейчас почти вытеснили прежнее железо и сталь. Конечно, железо и теперь еще находится в целом ряде производств и машин, но алюминий давно уже стал на первое место в мировой технике.
— Значит, железный голод, о котором говорили еще в наше время, — вставил профессор Фарбенмейстер, — оказался не вымыслом, и человечество истощило свои рудные запасы?
— Да, это так, — ответил один из наших спутников, — уже в XXIV веке начал остро ощущаться недостаток в железе. Все известные железные месторождения были к тому времени почти совершенно истощены, и если бы не мощное развитие добычи алюминия, запасы коего практически безграничны, — то технике последующих веков, несомненно, угрожала бы большая репрессия. По счастливому совпадению, приблизительно в то же самое время горной технике удалось преодолеть ряд затруднений по прокладке сверхглубоких шахт, считавшихся ранее невозможными.
Как известно, наша планета при среднем удельном весе около 5,4 обладает поверхностными породами, удельный вес которых не превышает в среднем значении 3. Это обстоятельство уже около тысячи лет тому назад заставило признать, что внутренние слои земли отличаются значительно большей плотностью и состоят из тяжелых металлов — вроде железа, кобальта, никеля и даже золота. Позднейшие изыскания и изучение распространения сейсмических волн полностью подтвердили эти догадки — основное ядро земного шара на глубине 2600 километров оказалось состоящим из чистого железа, какое встречается в метеоритах... Те залежи железа, находившиеся в верхних слоях, были лишь мелкими брызгами когда-то огненно-жидкого железного ядра, просочившимися на поверхность нашей планеты и превратившимися затем в тонкие прослойки железной руды. Техники того времени не хотели примириться с мыслью, что человечеству суждено терпеть недостаток в железе, в то время, как где-то там, глубоко под его ногами, бесполезно лежат миллиарды миллиардов тонн этого ценного металла. Все трудности заключались не столько в прорытии такой глубокой шахты — с этим легко справилась бы техника XXV века — сколько в преодолении высокой температуры, повышавшейся, как думали раньше, на один градус через каждые 30 — 50 метров, так что на глубине сорока километров должно бы уже плавиться железо. Но позднейшие исследования показали, что такое повышение температуры земной коры далеко не всюду идет одинаково быстро. Расплавленная масса облегает землю не в виде сплошного компресса, а скорей в виде отдельных припарок или обширных местных очагов подземного жара. Многочисленные буровые скважины, достигавшие глубины сотен километров, позволили установить несколько мест, где наибольшая температура слоев достигала лишь 600 — 700 градусов, а дальше вновь падала до 100 — 120 градусов.
В одном из этих «холодных» мест земной коры решили заложить шахту, которая достигла бы глубоких железоносных слоев. Почти полвека ушло на эту титаническую работу, несмотря на огромные технические ресурсы того времени. Шахта была взята диаметром в двадцать пять метров, при чем стенки ее строились из двойного слоя особого прочного цемента и тугоплавкой стали. Размельчение породы и извлечение ее на поверхность земли не составило особого труда, так как и здесь не считались с затратой энергии. Самое трудное началось с глубины 300 километров, когда окружающая температура достигла 600 градусов. Несмотря на возможно полную механизацию, нужен был все-таки некоторый надзор за работой машин. Но и при самом интенсивном охлаждении жидким воздухом даже кратковременный труд был так тяжел, что жертвы насчитывались десятками и сотнями.
Однако, никто не думал о прекращении начатой грандиозной работы.
На место одного погибшего тотчас же выходили сотни новых добровольцев — пока наконец трудный участок не был преодолен, и через несколько лет с глубины 2400 километров были извлечены первые куски внутри-земного железа... Работы эти останутся навсегда памятны...
Рассказчик умолк и, задумчиво глядя куда-то вдаль, подвел нас к огромному неправильной формы массиву из отполированного железа, лежавшего на невысоком холме посреди зеленой лужайки, в рамке кроваво-красных цветов. Одна из сторон железной глыбы была срезана и на ней золотыми буквами блестели какие-то даты и имена...
— Здесь их памятник и их могила...
— Значит, — не удержался я от вопроса, — здесь неподалеку и эта исполинская шахта?
— Да, Андреа, — ответил Рени, — вот это круглое здание неподалеку построено над ее устьем.
— Дорогой Рени, — взволнованно воскликнул я, — неужели нам нельзя будет взглянуть поближе на это поразительное произведение техники Нового Мира?
— Отчего же нет? — ответил за него один из наших заводских руководителей. — Если вы еще не достаточно устали и если вы чувствуете себя в силах потратить на это путешествие в недра земли три-четыре часа, то мы с своей стороны будем очень рады показать вам сооружения, которым по справедливости может гордиться современная техника.
Тем временем мы вошли в круглое здание. Внутренность его ничем не выдавала тайны скрытого под ним бездонного колодца. Я тщетно прикидывал в уме, сколько же времени потребуется, чтобы, упав туда, достигнуть дна этой чудовищной шахты в 2000 километров. Выходило что-то совсем несуразное: считая для простоты, что сила тяжести остается неизменной, надо было лететь до дна целых одиннадцать минут, ударившись о него с чисто космической скоростью около 6400 метров в секунду... Страшно было даже подумать... Инженер, которому я сообщил свои выкладки, только рассмеялся в ответ.
— Ну, этого можете не опасаться. Шахта разделена через каждые пять километров прочными герметически закрывающимися перегородками, так что такой воображаемый полет был бы значительно меньше... Только сбоку устроена сплошная металлическая труба диаметром в один метр, идущая до самого дна и служащая для разного рода научных наблюдений. Рассказывают, впрочем, что когда-то один из работавших там ученых, в припадке внезапного умопомешательства бросился в это отверстие и...
Я не стал расспрашивать о подробностях.
Мы опускаемся в бездну. На глубине 20.090 метров. Железное ядро земли. Мы продолжаем наше воздушное путешествие. Трубчатые электро-вакуумные дороги. Аллея домов-великанов. Новый Париж. 3600 километров в час. Мы обгоняем солнце и настигаем ушедшую ночь. Разговор с отсутствующим профессором Антеем. Мы вырываемся из плена земной тяжести. Урания — искусственная планета. Обсерватория за пределами атмосферы. Я обнаруживаю изменения в карте земного шара. Плавучие острова и центральное море Сахары. Механополис — Город Мира. Собрание центрального Совета. Я вновь слышу гимн Нового Человечества.
Шахта, глубиною в 2000 километров, влекла меня к себе, как магнит тянет стальные опилки. Я засыпал своих спутников сотней вопросов: каково давление воздуха на дне этой шахты? Как борются с атмосферным давлением, которое должно быть весьма значительным на такой глубине, как производится подъем руды на поверхность земли и т. д. и т. д.
Рени и инженер, похожий на репинского казака, едва успевали удовлетворять мое любопытство. Оказалось, что давление воздуха на дне шахты достигало бы нескольких сот атмосфер, если бы не герметические перегородки, устроенные по всей длине. Подъем руды производился не с помощью канатов — вес их был бы чересчур велик даже для новых материалов XXX века, так как стальной канат в один квадратный сантиметр сечения весил бы не менее 1500 тонн. Для подъема и опускания грузов здесь была применена настолько же смелая, насколько и оригинальная идея электромагнитной дороги. Весь путь на всем своем протяжении представлял собою как бы развернутый статор электрической машины с тысячами электромагнитов, по которым пускался ток, создававший быстро перемещавшееся магнитное поле, которое увлекало за собою вагонетки с рудой. Только поднявшись на вершину надстройки над шахтой, мы заметили сплошную струю черно-бурой железной руды с кусками неокисленного металла, непрерывно выбрасываемую из глубины земных недр. Я хотел взять в руки один из таких кусков, чтобы рассмотреть его поближе, но тотчас же бросил его обратно: кусок был еще горяч и обжег мои пальцы.
Мы вошли в железную прочную кабину, дверки наглухо захлопнулись вслед за нами, и только по легкому головокружению я понял, что мы стремительно падаем. Падение все ускорялось. Мелькала тревожная мысль: а что, если... В сознании на одно мгновение представлялась картина падения несчастного ученого... Механик, держа руку на рычаге управления, пристально следил за скоростью падения клети по особому указателю, — я взглянул и едва поверил своим глазам: 410 метров в секунду. Счетчик пройденного пути методично отщелкивал один десяток километров за другим: 100, 150, 200... Несмотря на толстую предохранительную обивку клети, внутри становилось все жарче, и термометр показывал уже около 25°.
— Мы проходим сейчас самую горячую зону, — пояснил сопровождавший нас инженер. — Дальше температура будет повышаться не так быстро.
400, 500, 1000, 1600 километров...
— Здесь уже начинается область богатых железом пластов. Мы проходим мимо первых штолен наших подземных рудников. Отсюда же добыта та руда, обработку которой вы видели на заводе.
1800, 2000... Ноги стали точно свинцовыми, и моя попытка сдвинуться с места окончилась неудачей. Я понял, что наша кабина начинает замедлять свой головокружительный бег. Легкий, почти неощутимый толчок — мы на дне.
Перед нами уходила вдаль широкая светлая галерея. Несколько тонких и толстых труб тянулись под потолком. Несмотря на непрерывное охлаждение жидким воздухом, от духоты было трудно дышать. Давило сознание, что над нашими головами лежит чудовищный слой земли в 2000 километров толщиной. По обеим сторонам галереи копошились человеческие фигуры, раздетые до пояса — здесь не было нужды в защитных металлических кирасах, так как окружающие слои железа надежно охраняли работающих от губительного влияния электрических излучений. То там, то сям у стен, точно молнии, вспыхивали яркие огни. Мы подошли ближе. Работающий держал в руках длинный шланг и электрической вольтовой дугой, загоравшейся при касании к железной окружающей массе — резал ее на куски, точно масло. Тут же бесшумно скользили вагонетки с электромагнитными кранами, забиравшими и отвозившими к шахте нарезанные глыбы металла.
— Это еще не самая большая и не самая глубокая шахта, — услышал я объяснение инженера: — таких шахт во всем мире насчитывается восемь, причем самая большая достигла глубины 2900 километров. Температурные условия в ней настолько благоприятны, что некоторыми учеными кругами в настоящее время поднят вопрос попытаться продолжить ее до самого центра земли, а в случае удачи вывести ее сквозь весь земной шар, что, помимо огромного количества ценных металлов, дало бы нам много ценных сведений о внутреннем строении нашей планеты...
Что же, я мог поверить всему, глядя на то, что было перед моими глазами! Эту ночь я спал очень плохо. Обилие впечатлений не давало возможности успокоиться. То мелькали гигантские руки, то громоздились чудовищные машины, то я стремглав летел в какую-то бездну..
К моему сожалению, у нас не было времени, чтобы остаться на заводе подольше, но я утешал себя мыслью, что вернусь сюда при первой возможности. Наши новые знакомые радушно предлагали нам свое гостеприимство и были, как кажется, не меньше моего огорчены тем, что нам не удалось осмотреть всех чудес этого промышленного гиганта.
Яркое солнечное утро посылало улыбку нашему аэронефу, когда он, оставив за собою серые громады заводских зданий, понесся на запад, обгоняя редкие тучки, закрывавшие солнце. Я жадно глядел на развертывавшуюся внизу панораму. Рея, мягко опустив руку на мое плечо, сидела тут же, рядом со мною. Мы пролетали все над той же зеленой скатертью полей и лесов, среди которых прятались небольшие коттеджи. Время от времени легкими стрекозами над ними взлетали небольшие аэронефы, блестя на солнце своими крыльями и тонкими корпусами. Я оглянулся кругом — в воздухе по всем направлениям неслись целые сотни воздушных судов. Напряженная, полнокровная жизнь чувствовалась внизу под этим зеленым покровом...
Длинная белая труба, выведенная точно по линейке и исчезавшая тонкой ниткой где-то на краю горизонта, привлекла мое внимание.
— Это наша железная дорога, — объяснила Рея. — Ты изумлен? Ты, наверно, полагал, что воздушное сообщение вытеснило всякие другие средства передвижения? Эти дороги существуют уже более 600 лет. В свое время они сыграли немалую роль, но сейчас служат только для массовой перевозки товаров и материалов. Это прочные трубопроводы из стали и цемента с выкаченным внутри воздухом. Под действием особой системы электромагнитов, внутри труб скользят с огромной скоростью целые поезда: они делают до тысячи километров в час, так как, благодаря отсутствию воздуха, сопротивление движению очень невелико. По этим электровакуумным железным дорогам непрерывной струёй, точно кровь по артериям, перебрасываются всевозможные грузы из одного конца земли в другой. Жители Европы через 5 — 6 часов могут получить овощи из Индии, хлеб из южной Америки, рыбу из Ледовитого океана. Эти трубы опоясывают собою весь земной шар — они тянутся через горы, извиваются по равнинам ныряют под поверхностью морей и океанов, где на глубине, недоступной влиянию волн, они поддерживаются на якорях и канатах.
Но что это? Какие великаны построили для себя эту величественную двойную аркаду на стройных четырехугольных колоннах? Я присматриваюсь и вижу, что это целая вереница гигантов домов, по меньшей мере вдвое выше Эйфелевой башни, вытянувшихся двумя ровными рядами вдоль широкой гладкой дороги. От одной башни к другой перекинуты легкие мосты из полупрозрачного материала, и сверху видно, как по ним с быстротой вихря скользят экипажи. Я плохо разбираюсь в стилях, но мне кажется, что в архитектуре домов-гигантов было что-то готическое, особенно в легких, уходящих в высь острых боковых шпилях и стрельчатых окнах. На плоских крышах этих домов, служивших также воздушными пристанями, я заметил зеленые кущи деревьев и различал мелькающие фигуры людей, спешивших к аэронефам. Такие же аллеи башен домов я видел слева и справа. Мне казалось, что все они тянутся к какому-то общему центру.
— Да так оно и есть, — ответила мне Рея на этот вопрос, — это начинается город-дорога, построенный около шести веков тому назад, когда жителям Паризии, — прежнего Парижа — стало тесно в их городе. Уже задолго до этого времени население крупных центров старого и нового света достигло цифры десятков и сотен миллионов.
Тогда-то и началась усиленная тяга прочь из этих нездоровых людских скопищ. Вот взгляни, что осталось теперь от этого прежнего Парижа.
Я узнал знакомую мне излучину Сены... Вот кружево Эйфелевой башни — я обрадовался ей, точно старому другу, вот купол дома Инвалидов, вот тень от триумфальной арки, отчетливо легшая на Площадь Согласия, вот силуэт Нотр-Дам-де-Пари... Но где же прежний многочисленный, кипящий, сверкающий, шумный Париж? Его не было, точнее, от него сохранилось лишь несколько десятков старых строений, памятники прошлого, воспоминания о давно отзвучавшей эпохе. Старый Париж утонул в зеленых зарослях исчез, раскинувшись лугами исполинских аркад, терявшихся в сизой дымке далекого горизонта.
 Рис.5. Целая вереница гигантов-домов вытянулась двумя ровными рядами вдоль широкой, гладкой дороги. |
Аэронеф ускорил свой ход, и через четверть часа я увидел вдали свинцовую полосу океана. Фер, лукаво поглядывая в мою сторону, начал о чем-то шептаться с нашим пилотом. Я заметил, что Рени улыбнулся и, кивнув головой, передвинул какой-то рычаг, отчего аэронеф принял наклонное положение и с увеличенной скоростью пошел вверх. Постепенно шипение летавших газов сделалось глуше, гряда облаков, одно время застилавшая часть горизонта, проплыла где-то далеко под ногами. Я взглянул на альтиметр — прибор показывал высоту в двадцать километров; однако, благодаря герметически закрытой кабине и искусственной вентиляции, дышалось легко и свободно.
Под нами расстилалась необъятная ширь океана, и только узкая голубая полоска на востоке напоминала собой об Европе, оставшейся далеко позади. Так в оживленной беседе прошло часа два, пока я не заметил что-то странное. Вылетели мы рано утром, когда солнце только что встало. По часам, висевшим около Рени, я видел, что сейчас половина двенадцатого, но косые лучи солнца, пронизывавшие стенку каюты, создавали впечатление раннего утра.
Я ничего не мог понять — солнце совершенно явно садилось на востоке! С недоумением смотрел я на моих спутников; весело хохотавших над моим растерянным видом.
— Милый Антреа, — первым обратился ко мне Фер, — ты, конечно, удивлен этому странному явлению? Я думаю, тебе не часто приходилось видеть солнце, заходящее на востоке.
А ведь все так просто — я попросил Рени подняться повыше и пустить наш аэронеф со скоростью 3.600 километров в час. Так как скорость вращения земли, даже на экваторе, не превосходит 1.700 километров в час, то совершенно ясно, что раз мы обгоним движение солнца, нам покажется, будто оно начнет склоняться к востоку. Наоборот, если бы мы двигались с запада на восток, то ночи и дни стали бы для нас вдвое и втрое короче... Уменьшив свой бег до скорости вращения земли — в этих широтах примерно до 1.200 километров в час, мы все время могли бы иметь над собой полдень или полночь... Как видишь, на нашем корабле было бы немного затруднительно сверять свои часы по солнцу, как это делали наши предки в старинных романах...
Конечно, я опять попал впросак. Все очень просто, как говорит Фер, и вместе с тем... 3.600 километров в час. 11 часов вокруг всего земного шара!..
Вот показалась серая каменистая полоса Панамского перешейка, где даже простым глазом я мог различить несколько линий гигантских каналов. Дальше — снова бескрайняя гладь океана. Лиловые тени окутывали постепенно наш аэронеф — сумерки вчерашней ночи, которую мы обгоняли. На темнеющем небе зажигались первые звезды. Одна из них привлекла мое внимание своим неестественно ярким мерцающим светом. Вспышка — темнота — вспышка, вспышка — темнота... Положительно это было похоже на световую сигнализацию! Но я решил не задавать больше вопросов, боясь что мои друзья снова будут смеяться над, моим невежеством. Однако, загадочная звезда начинала вести себя все более и более непонятно. Несколько минут тому назад она была совсем близко у хвоста Большой Медведицы, а сейчас она явно переместилась на несколько градусов вправо. Что же это? Болид? Встречный аэронеф? Межпланетный корабль? Я не вытерпел и обратился с расспросами к Рее. Но, Рея улыбаясь, молчала.
— Имей терпение, Антреа, — сказал Фер, — скоро ты узнаешь, в чём дело. Мы хотим сделать тебе небольшой сюрприз, зная, что ты так живо интересуешься успехами астрономии.
Тем временем электричество в каюте потухло, но зато на белом круглом экране, который я давно уже заметил у задней стороны каюты, вспыхнуло неясное мерцание, где постепенно стали вырисовываться знакомые мне черты профессора Антея. В каюте снова стало светло и с экрана послышался знакомый нам голос старого ученого.
— Привет вам, друзья мои. Как понравилось гостям их первое воздушное путешествие? — Голос нашего бывшего хозяина был так звучен и изображение его было настолько рельефно, что казалось, будто профессор говорит не за тысячи километров, а из-за перегородки каюты.
Мы с профессором Фарбенмейстером рассказали, что видели, и наш ученый друг слушал нас с чуть заметной улыбкой, — совсем как взрослые слушают оживленный рассказ детей, чье воображение поразила какая-нибудь вещь, давно уже им известная.
Но вот экран потух, и Рени, оставив рули, пошел в. машинное отделение, внимательно осмотрел, хорошо ли закрыты все отверстия аэронефа, и предложил нам плотнее устроиться в глубоких мягких креслах, лицом по направлению движения. Снова сев за руль, он привязал себя эластичным поясом к сидению и взялся за красную рукоятку справа. В это же мгновение из-под корпуса аэронефа, несмотря на разреженную атмосферу, раздался громоподобный рев, вылетающих газовых потоков. Корабль, точно камень, пущенный из пращи, резко рванулся вперед, и я почувствовал, что не могу сделать даже самого слабого движения рукой. Точно мягкая, многопудовая тяжесть навалилась на плечи, на голову, на живот, мешая двигаться и дышать. Такое состояние продолжалось минуты три, но эти три минуты показались мне и профессору Фарбенмейстеру целою вечностью. Постепенно рев моторов затих, давившая тяжесть исчезла и я быстро вскочил, чтобы размять немного затекшие ноги, но — странная вещь: сделанное усилие отбросило меня в противоположный конец каюты, где я довольно чувствительно ударился головой о металлическую раму окна. Фер и Рени безжалостно хохотали, глядя на мои старания найти утраченное равновесие. Невольно с ними рассмеялся и я, увидя, что и профессору Фарбенмейстеру не лучше; его длинная, тощая фигура нелепо плавала в воздухе, пытаясь за что-нибудь ухватиться.
— Фер, — не мог я удержаться, чтобы не воскликнуть. — Фер, да объяснишь ли ты нам, наконец, это новое очередное чудо, которым вы хотите окончательно затуманить наши бедные мозги двадцатого века...
— Дорогой Антреа, — смеясь отвечал Фер, — ведь это так просто! (Опять это проклятое «просто» подумал я). Рени дал ускоренное движение нашему кораблю, который сейчас может быть назван скорее «этеронефом» — кораблем эфира, чем «аэронефом» — кораблем воздуха. Эти неприятные три минуты были нужны для сообщения ему скорости около 10 километров в секунду, достаточной, чтобы выйти из действия земного тяготения и достичь той звезды, на которую ты смотрел с таким недоверием. Ну, я рассею твои недоумения: это не «звезда», а искусственно образованная при помощи мощных космических кораблей, — маленькая планета, новый спутник земли, служащий для астрономических наблюдений и для разрешения ряда других научных задач. Эта крохотная луна, названная «Уранией» в честь мифической богини астрономии, отстоит от земли на 12.000 километров и совершает свой оборот вокруг нее приблизительно в пять с половиной часов. Огни, которые ты видел, не что иное, как световые сигналы, которые Урания посылает на землю...
Наш корабль-ракета, повинуясь управлению Рени, тем временем сделал полный оборот вокруг самого себя и начал двигаться кормою вперед. Мы снова должны были занять места в креслах, но на этот раз операция торможения была гораздо более мягкой, так как сама Урания обладала значительной скоростью. В окна каюты я с жадным любопытством глядел на это едва ли не самое поразительное создание человеческого гения последних веков.
Я увидел овальное продолговатое тело из серебристого металла, длиною около двух километров с огромными окнами, сквозь которые виднелись зеленая растительность. и узкие дороги с редкими пешеходами. Из главного корпуса искусственной спутницы земли выступали два гигантских прозрачных купола, закрывавших собою скрытый внутри объектив зеркального телескопа. Несколько минут мы неслись рядом с этой странной планетой и могли, рассмотреть ее во всем ее величии и красоте.
— Человек создал новое небесное тело!
— Да, мы можем гордиться этим сооружением, — продолжал Рени. — Удачное его завершение стоило тоже немалых жертв человечеству. Смелая идея создания новой луны, где могла бы быть устроена идеальная астрономическая обсерватория вне всякого влияния атмосферы, — была брошена еще несколько столетий тому назад, — впрочем нет, еще раньше мысль о ней, конечно в наивной и незаконченной форме, встречается в одном научно-фантастическом романе первой четверти XX века, я забыл, к сожалению, имя автора этой забавной книги, которую теперь нельзя читать без улыбки... Но к реальному воплощению этой смелой идеи человечество могло приступить лишь около ста лет тому назад, когда усовершенствовались способы междупланетного сообщения. Внутри этой планеты находятся жилые помещения, сады, площадки для игр, оранжереи, лаборатории, все нужные аппараты, моторы, а также богатые запасы воздуха, провианта и энергона — особого вещества, дающего двигательную силу нашим воздушным кораблям и машинам. Вещество это служит источником тепла и света для Урании, сообщая при помощи реактивных приборов всему ее телу различные необходимые положения в пространстве. Сама Урания прочно связана силой тяготения с землей и навеки, пока сама не разрушится, останется ее сателлитом. Особенно трудна была доставка сюда гигантского зеркального объектива диаметром в 150 метров. Чудом точной механики были также приборы, посредством которых можно удерживать в пространстве оптическую ось телескопа — сам объектив неподвижен, все же необходимые повороты автоматически достигаются вращением самого тела новой планеты. Зато и результаты первых же лет наблюдений вознаградили любознательность человека — колоссальное увеличение, которое можно было здесь применить, раскрыло перед астрономией самые глубокие тайны мироздания. Детально изучены поверхность всех наших соседних планет, обнаружены две планеты внутри орбиты Меркурия и одна — за пределами Нептуна, сделались видимыми темные спутники некоторых ближайших к нам звезд, открыты сонмы новых туманностей и во много раз отодвинулась видимая граница вселенной... Но вот и солнце! — прервал Рени самого себя, и быстрым движением задернул окно аэронефа плотной темной занавесью.
Несмотря, однако, на эту предосторожность, ослепительно яркие лучи солнца, неожиданно быстро вышедшего из-за темного края закрывавшей его земли, залили всю каюту невыносимо ярким сиянием. Глаза с трудом привыкли к этому морю огня. Там, где-то в глубине, не знаю даже как сказать: над нами или у наших ног — медленно выступала из мрака наша Земля. Узкий освещенный серп делался все шире и ярче — расплывчатый край ночной тени сползал с Индии, — вот уже, как на географическом глобусе, открылась Европа, показались знакомые контуры Африки, полированным выпуклым зеркалом засверкала зеленоватая гладь океанов. Снежные шапки полюсов были закрыты сплошной облачной пеленой. Она же вуалировала очертания обеих Америк.
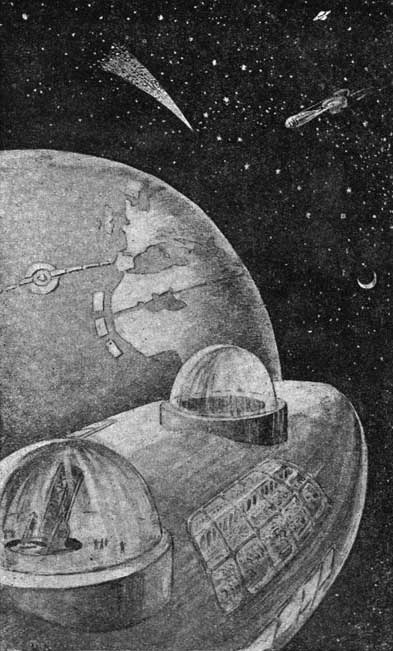 Рис.6. Человек создал новое небесное тело! |
Было странно и жутко глядеть на эту живую рельефную картину. Не верилось, что ее отделяет от нас целая бездна... Но что это? Я вглядываюсь пристальнее и хватаюсь за бинокль. Да, — знакомые очертания Европы потерпели коренное изменение. Берега Бельгии и Голландии далеко вдаются теперь в Немецкое море, а от берегов Испании через Азорские острова тянется широкая ровная лента суши. В Сердце Сахары смутно поблескивает обширное море, и ослепительным светом горят какие-то квадратные участки пустыни. Феру и Рени снова пришлось дать мне целый ворох объяснений тому, что я увидел.
— Сильно возросшему населению земли, — сказал Рени, — давно уже стало тесно в прежних границах ее материков, и с XXV века, по примеру маленькой Голландии, у моря начинают отвоевывать все большие и большие пространства земли. Сейчас почти половина моря, к западу от Голландии, ограждена гигантскими насыпями и осушена, дав приют сотням миллионов людей. Там, где такие ограждения были невозможны, — прибегли к устройству искусственных островных поселений, вроде тех, которые были когда-то в Китае, на его полноводных реках. Только эти плавучие острова, которые ты видишь в Атлантическом океане и на побережье западной Африки, обладают площадью в сотни тысяч квадратных километров, связав непрерывной цепью материки Америки и Европы. Там же, около этих островов находятся наши океанские волновые электроцентрали, рассылающие без проводов мощные потоки лучистой энергии. Пустыни Сахары давно уже превращены в цветущую страну, после того как удалось прокопать каналы и залить водами океана часть ее сыпучих песков. Ты спрашиваешь, что это за блестящие квадраты? Это наши главные солнечные электрические станции, вырабатывающие миллиарды лошадиных сил и снабжающие своей энергией часть Европы и весь континент Африки. Такие же солнечные станции, только меньших размеров, работают в пустынях Азии и Сев.-Американской засушливой зоне.
Масштаб живой географической карты тем временем делался все крупнее — мы быстро приближались к Земле, тормозя наше падение взрывами в моторах. Вот мы уже опять над Атлантическим океаном, и по глухому рокоту чувствуется, что мы входим в верхние слои атмосферы. Еще несколько томительных минут, потребовавших от нашего капитана самого напряженного внимания, и под нами уже бегут клочки облаков, мелькает зелень деревьев, тянутся белые нити дорог...
Вот снова смелые очертания башен, связанных кружевом воздушных мостов. Лазурь прудов и озер, изумруды садов, — жемчуга куполов и колонн, — пестрая мозаика из камня, цветов и металла.
Механополис — город Мира под нами...
Нас ждали. На аэропристань к нам вышел навстречу сам профессор Антей, только что прибывший сюда из Европы. Завтра должно было состояться торжественное заседание Центрального Совета, которому нас хотели представить. В понятном волнении ждал я того часа, когда мне придется взглянуть в глаза нового человечества, олицетворенного в этом собрании.
И этот день наступил.
Профессор Фарбенмейстер, я, Рея и Фер в сопровождении старого Антея с утра заняли назначенные нам места: в огромном мраморном амфитеатре, окруженном легкой дорической колоннадой. Величественное здание собраний Совета было все целиком, насколько это позволяли его размеры, выдержано в строгом античном стиле. Только гигантский круглый купол, смело перекрывавший все пространство амфитеатра, напоминал о другой эпохе, сумевшей воздвигнуть это колоссальное здание.
Места медленно наполнялись оживленной и яркой толпой. Впрочем, эта была не та толпа, какую я знавал в свое время, — шумливая, вздорная, безликая масса людей. Люди, которые входили туда и рассаживались по мраморным скамьям, были детьми Нового Мира, представителями новой, прекрасной и разумной человеческой расы. Нет не толпу, а именно человечество видел я перед собой, под этим сияющим куполом...
Но вот — амфитеатр весь заполнен. Море голов, целая гамма цветных одеяний и блестящих металлических кирас. Движение руки председателя — величавого патриарха с длинной седой бородой, и в зале воцаряется тишина. Краткая вступительная речь, слышимая в каждом углу при помощи сотен скрытых повсюду микрофонов и усилителей. Сосредоточенное молчание. Затем весь амфитеатр встает как один человек, свет в зале меркнет и откуда-то, точно из глубины земли, слышится незабываемая мелодия гимна Нового Человечества... Мощные звуки невидимого органа вливаются в согласное пение тысяч молодых голосов. Весь низ амфитеатра теперь в полумраке. Звуки ширятся, — им уже тесно под этими сводами, они бьются об эту преграду, зажигают ее своими вибрациями — в центре купола вспыхивает яркое разливающееся во все-стороны пламя. Поет толпа, поют стены, поют колонны, поют камни и сталь,- весь мир, кажется, охвачен огненным напевом Победы и Радости...
Не стыжусь сказать — я плакал... Отчего, не знаю и сам.
Рея тесно прижалась ко мне — я заглянул в ее глаза — они тоже полны были слез...
Никогда, никогда не забыть мне этих мгновений!..
Последний могучий аккорд, от которого, кажется, раздадутся циклопические стены амфитеатра и... тишина. Новая речь Председателя... Доклады... На кафедре профессор Антей. Движение среди слушателей. Вот и наш черед. Неуверенной походкой по каменным ступеням кафедры поднимается мой друг — профессор Фарбенмейстер. Он еще немного путается в длинных складках своего плаща, но это уже не та иссохшая книжная мумия, печальный представитель XX века. Профессор оборачивается и приглашает меня за собою.

Я чувствую рукопожатие Реи, поднимаюсь, как в полусне, и становлюсь рядом с моим спутником. Движение в зале усиливается, но тотчас же стихает, когда профессор Фарбенмейстер начинает свое приветствие. Я плохо его понимаю — необъяснимое волнение сжимает мне горло, туманит глаза. Наконец, профессор кончает. В зале снова слышен глухой гул голосов и тысячи рук поднимаются, приветствуя в свою очередь нас, пришельцев из далеких веков...
По-прежнему как в тумане, иду я на свое тесто, и глубокое, радостное сознание какой-то общности с этим новым миром наполняет все мое существо: я чувствую себя полноправным участником в великом строительстве жизни...
Я делаюсь гражданином XXX века. Появление Унаро. Я узнаю, что Унаро не безразличен Рее. Старая, но вечная юная история. Мое столкновение с Унаро и его гибель. Меня изгоняют — обратно в двадцатый век. Последнее прости Новому Миру.
Какой грустной иронией звучат теперь эти слова, когда я перечитываю их на страницах своих записок!.. «Полноправным участником в великом строительстве жизни»... Нет, не мне суждено быть этим строителем. Слишком много личного, старого и жесткого осталось еще в моей душе, чтобы я мог войти в этот светлый храм Нового Человечества...
Постараюсь рассказать все, как было. Буду краток. Радостно писать о победах человеческого гения, но тяжело говорить о своем собственном падении и ошибках. К тому же я не пишу повести о себе самом.
Из Механополиса вскоре мы вернулись все вместе в Европу. Рея не хотела расставаться с отцом, а я не мог жить без Реи. Профессора Фарбенмейстера мы надолго потеряли из виду. Счастливая, цельная натура! Он был совершенно счастлив в знакомой обстановке лаборатории, специально для него созданной для работ над усовершенствованием хрономобиля. Я также не оставался праздным, уйдя с головой в изучение современных двигателей и электрических машин. К моему величайшему горю, я не имею сейчас при себе сделанных мною чертежей и записок. Мне оставили только эти разрозненные листки — нечто вроде дневника, куда я заносил свои мысли и впечатления.
Часть дня, вместе с Фером, который также пристрастился к электротехнике, мы работали на постройке новой крупной электрической станции, где начальником оказался Унаро, знакомый мне по первым дням нашего пребывания в Новом Мире. Это был сосредоточенный, замкнутый в себе человек с резкими, властными чертами лица, со скупой и отрывистой речью. Фер и другие говорили мне, что его последние работы по трансформированию электрических волн должны создать переворот в технике передачи энергии. Возможно, что это была правда, но я менее всего мог быть тут судьей, так как мои научные познания — недурные для XX века, были абсолютно недостаточны в новой эпохе. Остаток дня и вечера мы проводили вместе, в доме старого Антея, ставшем и моим домом.
Время от времени вместе с Реей и Фером мы предпринимали далекие путешествия на небольшом аэронефе, которым я научился управлять не хуже Реи. Я постиг даже трудное искусство летания на белых крыльях, и вместе с толпой таких же крылатых существ носился над зелеными вершинами леса, взлетал под облака, плавно скользил над гладью озер... Какие ощущения несказанной свободы!
Я не помню, когда на нашем горизонте появился Унаро. Я с уважением относился к его работам и никогда даже мысленно не пытался ставить себя выше его. Говорю это совершенно искренно, чтобы быть справедливым к самому себе. И все-таки — мы оба не чувствовали друг к другу той симпатии, которая так быстро связывала меня с многими людьми Нового Мира. Скорее наоборот — иногда я ловил на себе тяжелый настороженный взгляд Унаро, который он тотчас же отводил в сторону, как только. замечал, что я смотрю на него.
К тому же времени я почувствовал какое-то необъяснимое изменение в отношениях Реи. Я все чаще встречал ее грустной и задумчивой, при чем на мои тревожные вопросы она отвечала или невпопад, или приводила разные мало убедительные причины.
Однажды, зайдя в ее комнату, я застал Рею в слезах. Ее великолепный мраморный барельеф, послуживший толчком к нашему первому сближению — лежал разбитый на каменном полу мастерской. Широкая трещина разделяла обе фигуры, в страстном порыве когда-то тянувшиеся к друг другу. Что это — невольно подумал я — мрачное предзнаменование, или случайность? Все реже делались наши прогулки по воздуху. Каждый раз, когда я звал с собою Рею, она находила предлог, чтобы остаться дома, ссылаясь на работу в лаборатории. В один из ясных осенних вечеров, после того, как Рея, по обыкновению отказалась мне сопутствовать, я решил лететь один, но неожиданно начавшийся ветер с дождем заставил меня очень скоро вернуться домой. Из мастерской Реи ко мне донесся ее радостный смех, которого я не слышал уже много недель. Так смеялась она когда-то, — в те дни, когда я приходил к ней, еще до нашего первого путешествия на аэронефе...
Я откинул тяжелую занавесь и увидел Рею, — мою Рею в объятиях Унаро... Не знаю, откуда я нашел в себе силы, чтобы удержаться от крика. Я бесшумно опустил складки портьеры и поднялся к себе наверх. О, эта ночь! И как только я ее пережил?..
Утром последовало объяснение с Реей. По моему виду она угадала, что мне все известно. Да и скрывать было нечего.
Свободной она соединила свое существование с моим, — разве не вправе она располагать собою и сейчас? Конечно, она еще любит меня, и я буду для нее самым дорогим человеком... после Унаро. При этом имени в душе моей поднималась целая буря злобы и ненависти. Унаро... В сущности, разве он в чем-нибудь виноват? Разве мне соперничать с этим блестящим умом? В подобных случаях можно найти сотни самых бесспорных доводов к тому, чтобы принять совершившееся, — но пусть хоть кто-нибудь из тех, кто пережил то, что пережил я, скажет мне — намного ли облегчили ему все эти прекрасные рассуждения невыносимую боль от потери любимого человека?..
На станции шла в то время самая интенсивная работа по испытанию новых машин. В тот же день в одном из отделений токов высокого напряжения я встретил Унаро. Я почувствовал, что бледнею и, чтобы скрыть свое лицо, быстро повернул обратно. Резкий голос Унаро заставил меня остановиться. Не думает ли он, что я его боюсь? — мелькнуло у меня в голове. Я поднял глаза и увидел на лице Унаро насмешливую улыбку победителя... Что прочел он в моих глазах, я не знаю... Все мои рассуждения разлетелись как карточный домик. Двадцатый и тридцатый век стерлись, исчезли... Два разъяренных самца стояли друг против друга.
Кто первый тронулся с места? Кто нанес первый удар? Этого я не знал. Помню только, что через минуту в узком проходе между блестящими шипами, одно прикосновение к которым убивает на месте, — сплелись в смертельном объятии наши тела. Унаро был сильнее и выше, но ярость утроила мои силы, сделав мускулы железными, а движения быстрыми, точно мысль... Страшный удар в голову заставил меня пошатнуться и едва не упасть. Но через мгновение мне удалось схватить Унаро за пояс и отбросить его от себя. Я увидел, как он зашатался и с диким криком, хватая воздух руками, упал на медные провода. Помню еще — сноп синих искр... желтое пламя... судорожно корчащееся тело и ужасный запах горелого мяса...
Говорить ли о том, что было дальше? Да, надо, потому что о самом тяжелом я уже рассказал. Мое столкновение с погибшим Унаро произвело на всех моих друзей самое гнетущее впечатление. Меня обвинили в давно уже небывалом и позабытом здесь преступлении — в убийстве. Мои друзья от меня отшатнулись. Правда, я был на свободе, но на что была она мне, эта свобода?.. Рея не хотела меня больше видеть, а я — я готов был целовать ее тень на земле...
Был суд. Я не пытался оправдываться, ссылаясь на дикие инстинкты XX века. Я убил и должен был понести ответственность за свое преступление...
Приговор был справедлив, но жесток. Мне больше не было места в семье Нового Человечества, и я должен был уйти из него навсегда...
Значит смерть?.. Нет, изгнание. Изгнание в Старый Мир, откуда, по непонятной игре судьбы, я появился в Грядущем...
Хрономобиль профессора Фарбенмейстера должен был отвести меня обратно в XX век. Эту печальную обязанность принял на себя Фер, едва ли не единственный из всех близких мне людей, который сохранил еще ко мне часть своей прежней симпатии. Последним моим впечатлением, которое я унес из нового мира, были розовые перистые облака, плывшие в закатных, солнечных лучах, и замирающее пение цветов, точно славших мне свой прощальный привет... Мой друг — старый профессор Фарбенмейстер был тут же. Он пожал мне руку и шепнул — «Courage, дорогой мой, Courage... Мы еще, быть может увидимся»...
До сих пор я не знаю, почему, как только за мною захлопнулся люк хрономобиля, я тотчас же почувствовал, невероятную сонливость. Быть может опасались нового проявления моей атавистической дикости и каким-то образом погрузили меня в искусственный сон?
Очнулся я на диване, в комнате, рядом с лабораторией профессора Фарбенмейстера, откуда началось наше полное приключений странствие во времени. Казалось, что здесь ничего не менялось. Да и чему было меняться, когда настенном календаре виднелась та же самая цифра — 9 сентября, — день нашего отъезда в будущее... Заботливая рука милого брата Реи положила у моего изголовья несколько сорванных стеблей поющих цветов. Вот они и сейчас перед мною, — я посадил их в землю, но, увы, они навсегда перестали звучать...
Тяжелые капли дождя нудно барабанят по мутным окнам моей старой берлинской квартиры... Хозяйка рада тому, что я наконец возвратился — я, конечно, заплачу ей за время своей болезни? Господин инженер не может себе представить, как дорога сейчас сделалась жизнь! Я гляжу на грязно-серую улицу. Унылые фигуры с поднятыми воротниками пальто поспешно шлепают по коричневым лужам. Грохот трамваев смешивается с ревом автомобилей, оставляющих за собою сизые полосы вонючего дыма. Здравствуй, старый двадцатый век! Вот я опять у тебя... Завтра я еду домой, в Россию. Мне кажется, что я не был там целые годы. Я еду туда, где лужи в городах еще глубже, где грязи и дыма еще больше, — но где в великом борении с людьми и с природой закладываются первые полуобтесанные камни того здания, которое мелькнуло предо мною прекрасным видением...
Пусть еще эти камни положены криво и неумело, пусть уйдут они в самую толщу фундамента, пусть не раз упадут они на тех, кто их ставит, камень за камнем, удар за ударом — но стены все выше!..
Грядущее человечество! Радостное, творящее, свободное человечество! Тебе шлю я, изгнанник, мой далекий привет...
Ты придешь, ты очистишь наш мир, ты заставишь улыбаться и моря, и сушу, и воздух... Ты сделаешь жизнь на земле прекрасной, как сон... Ты придешь... Это сбудется... Я верю... Я видел... Я знаю...